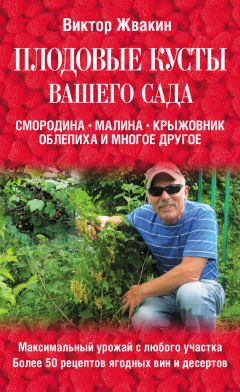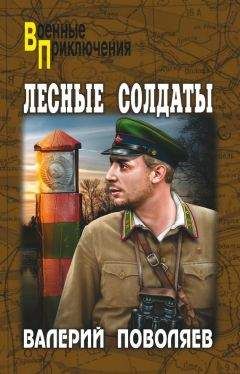И вот Октябрины нет. Ломоносов так же, как и лейтенант, горько вздохнул. Выпрямился.
– Всё понял, товарищ командир, – произнёс он тихо, сморщился страдальчески. – Сегодня же пошлю людей.
На разведку отправились двое – Ерёменко и Игнатюк.
– В село вместе не суйтесь, – предупредил их Ломоносов, – один пусть обязательно останется… На атасе. Ты, Ерёменко, человек шустрый, сообразительный, тебе сам бог велел пойти в райцентр, ты из любой передряги выкрутишься, немцы не страшны, а ты, Рыжий, останься на стрёме… Впрочем… – Ломоносов махнул рукой. – Действуйте по обстановке… – Ломоносов пожевал губами, в горле у него что-то булькнуло, поплыло, потекло, и он не сумел ничего больше сказать, вновь махнул рукой: идите, мол.
Расстроенный вид Ломоносова говорил о многом. Разведчики ушли.
Километрах в двух от Росстани в дупле старого кряжистого дуба у них имелась схоронка – очень нужная в условиях леса вещь, туда они прятали одежду. В холодную пору без костров не обойтись, любая тряпка пропитывается дымом настолько, что её невозможно даже поднести к лицу – крутой запах щиплет, выворачивает наизнанку ноздри, любой немец, даже безносый, по пропитанной дымом одежде безошибочно угадывает в партизане партизана, поэтому в лесной телогрейке либо в армянке было опасно появляться в райцентре – это провал, вот разведчики и переодевались, подыскав для одежды подходящее дупло… Свернули они к схоронке и в этот раз.
Ерёменко натянул на плечи зипун, зябко передёрнул плечами – слишком тот охолодал в дупле, свою телогрейку скатал в комок, внутрь сунул ушанку с красногвардейской звёздочкой, перетянул свёрток ремнём. Одёрнул на себе зипун, на голову напялил облезлый заячий треух – и мгновенно превратился в забитого несчастного селянина, явившегося в райцентр, к властям здешним искать защиты от притеснений старосты, ну, ни дать ни взять, заморенный, задавленный хлопотами, бесправный сельский мужичок…
Ерёменко, будто заправский демонстратор одежды, крутнулся перед Игнатюком, словно на помосте:
– Ну, как, Рыжий?
Тот вздёрнул торчком большой палец:
– Во! От деревенского дурачка не отличишь.
– Дымом от меня сильно пахнет?
Игнатюк покрутил носом, пофыркал, посопел, шумно втянул ноздрями воздух, также шумно выдохнул.
– Говнецом попахивает, а дымом… дымом – нет!
– Рыжий, не дразни дядю!
– Я честно говорю: говном попахивает, дымом нет.
– Это хорошо, – довольно произнёс Ерёменко. – Держи! – Отдал Игнатюку автомат, сумку с запасными рожками и пистолет.
– Пистолет, может, оставишь?
– Нет. У меня есть оружие получше пистолета. – Ерёменко достал из кармана нож с выщелкивающимся лезвием – месяц назад нашёл его в ранце у одного убитого мотоциклиста, научился прилично пользоваться им. Щёлкнул кнопкой и произнёс горделиво, а главное, к месту: – Стреляет без промаха. Осечек не бывает.
Но на Игнатюка эта горделивость впечатления не произвела, он шмыгнул носом, подцепил рукавицей простудную влагу и пробурчал, недовольный тем, что Ерёменко не прислушался к его совету:
– Не говори «гоп», пока плетень не одолеешь. Вернёшься назад живой, целый, без красной вьюшки, размазанной по физиономии, тогда и скажешь.
– Ладно, не бурчи, Бурчалкин. Лучше молись за меня, пока я буду находиться там… – Ерёменко повёл головой в сторону, в которой находился райцентр.
– Договорились. Вали и… и возвращайся побыстрее. Не то мне тут одному будет скучно. – Игнатюк поспешно замаскировал дупло, критически оглядел напарника со стороны и двинулся за ним следом. Пробормотал на ходу: – Бурчалкин, Бурчалкин… Ну и словечки же ты подбираешь, брат Митюха!
Он довёл Ерёменко до опушки леса, там достал из кармана гранату, подкинул её в руке. Попросил:
– Возьми с собой хоть гранату… На всякий случай. Мало ли что!
– Гранату давай, – неожиданно согласился Ерёменко, сунул её за голенище валенка, подёргал ногой. – Нет, неудобно. – Переложил её в карман зипуна. – Пусть побудет пока тут, погреется. – Не прощаясь, не произнеся больше ни слова, натянул треух на глаза и двинулся через поле к райцентру, к темнеющим разноликим приземистым домам.
Игнатюк долго стоял на опушке. Одинокая, наполовину съеденная пространством фигурка вызвала у него невольное щемление, почти боль, родила разные тоскливые мысли, от которых, если честно, на войне надо освобождаться, иначе рванёт, как та граната, и от человека только одни подошвы да ногти и останутся… Тьфу! Игнатюк до боли вглядывался в поле, залитое ровной седой белью, не выпускал из глаз неторопливо бредущей фигурки до тех пор, пока фигурка не исчезла совсем – её растворили снега, снега, снега…
Ерёменко благополучно добрался до площади, где располагалась виселица, а на верёвках продолжали раскачиваться четыре негнущихся, превратившихся в камень тела, несколько минут стоял там, шмыгая носом и внимательно рассматривая повешенных, словно бы хотел запомнить эти лица, внезапно сделавшиеся ему дорогими, на всю жизнь.
Долго находиться тут было нельзя, его уже приметил дюжий полицай, стоявший на часах у трупов, цепким взглядом он оглядел Ерёменко с головы до ног и поинтересовался с ухмылкой:
– Ну что, нравятся?
– Да как сказать… – попытался уйти от ответа Ерёменко.
– Как есть, так и скажи. – Полицай сощурился, вновь измерил взглядом мужичка, который ему чем-то не приглянулся, а вот чем конкретно, он понять не мог… Да, собственно, всем! Всё в нём было плохо. Полицай – это был Федько, – рассерженный до икоты от того, что ему пришлось заступить на дежурство и вместо законного выходного дня он теперь должен отгонять от виселицы разных деревенских дурачков типа этого малахольного кацапа в облезшем треухе, никак не мог прийти в себя, потому и привязывался. В треухе у кацапа небось тараканы водятся. И клопы со вшами. – Скажи-и, – с угрозой протянул полицай.
Ерёменко видел, что происходит внутри у часового – это было без всяких объяснений понятно по его роже, туго обтянутой лоснящейся кожей, по усталым от выпивки, маленьким багровым глазам, – и был спокоен: этого красномордого деятеля он не боялся.
– Ну, чего молчишь, козёл деревенский? – повысил голос Федько, стаскивая с себя тяжёлую немецкую винтовку.
«Кто из нас козёл, ещё надо разобраться», – подумал Ерёменко без всякого зла и страха – эка невидаль, винтовка, в двух метрах из-за мешков с песком выглядывает более грозное оружие – пулемёт с длинным дырчатым кожухом, надетым на ствол, неопределённо приподнял одно плечо и спросил тихим, скучным голосом:
– А чего говорить-то?
– В райцентре я тебя раньше не видел, – просипел Федько жёстко, – говори, откуда пришёл?
– Из Тишкина, – без запинки ответил Ерёменко.
– И в Тишкине я тебя не видел, – заявил полицай. – Чего ты там делаешь?
– Как чего? – сделал недоумённый вид Ерёменко, глазницы у него округлились. – Живу.
– Где конкретно?
– В третьей хате по правой стороне, если выезжать из Тишкина в райцентр.
– А фамилия твоя как будет?
– Рыбачков! – Ерёменко знал, что говорил, половина семей в Тишкине носила эту фамилию, чтобы проверить её, этому красномордому деятелю надо будет поехать в Тишкино, дорога же туда неблизкая, на проверку полицаю понадобится пара дней, не меньше, поэтому вряд ли он будет дальше придираться.
Скорее бы он отлепился. Но полицай не думал отставать от не понравившегося ему мужичка, приблизился к Ерёменко, засопел шумно, пробуя ноздрями воздух.
– Ты это, – заявил он громко, – от тебя дымом пахнет. Ты – партизан!
– Да какой я партизан, – устало заявил Ерёменко, – окстись, дядя! А дымом… да, дымом от меня пахнет, поскольку печка в хате старая, перекладывать её надо, да только кто ж печи в домах зимой перекладывает? Тем более морозы вон какие стоят – до костей пробирают.
– Не нравишься ты мне, козёл деревенский… – Полицай, придерживая винтовку, звучно высморкался себе под ноги.
– Я не пряник, чтобы нравиться. Это жамки глазированные всем нравятся…
– Пошли в управу, будем разбираться.
– Пошли, – покорно вздохнул Ерёменко, – хотя чего тут разбираться?
– Топай, топай передо мной! – Федько ухватил его за воротник, больно ткнул костяшками кулака в шею. – И не вздумай шаг влево или вправо сделать – мигом продырявлю. Иди прямо и подчиняйся моим командам.
– Тишкинский я… – взялся за своё Ерёменко.
– А по-моему, лесной. Партизан!
– Ну, дядя, ты и даёшь! – Ерёменко пальцем поддел треух, сдвигая его вверх, из-под треуха показалось остриженное под «нуль» темя. Полицай заметил это, воскликнул неожиданно радостно:
– Да таких лысых, как ты, в Тишкине отродясь не бывало. Партизан!
– Сам ты партизан! – с досадою произнёс Ерёменко.
Федько снова ткнул его костяшками кулака в шею. Прорычал:
– Счас мы тебя на дыбу вздёрнем – живо в своих грехах признаешься!