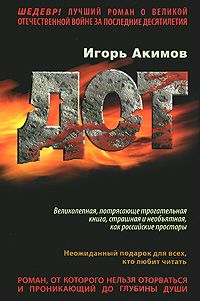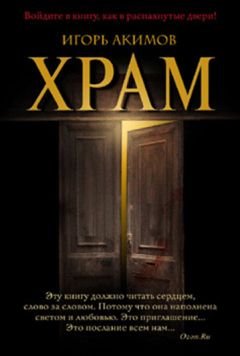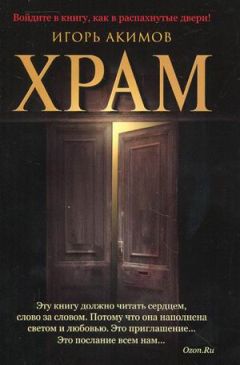— Почему доски оторваны?
Ствол винтовки был направлен в грудь Залогину. Не просто в грудь, а в средостенье. Залогин видел только дуло. Как свиное рыло, которое под землей вынюхивает трюфели, дуло принюхивалось к Залогину. Гимнастерка и нижняя рубаха Залогина были нараспашку, худая, белая грудь усыпана крупными каплями пота. Залогин чувствовал, как пот выдавливается из пор — и стекает, выдавливается — и стекает. Дуло обследовало его тонкие кости, хрящи и связки, которыми кости крепились, оставляя без внимания плоские мышцы. Вот сейчас оно выберет подходящее место, или все равно какое — просто надоест выбирать, — и выплюнет кусок свинца. Пуля проломит кости (острыми белыми осколками они воткнутся в соседние ткани), разорвет перикард, мышцы и связки сердца, проткнет, не обратив внимания, не способное оказать и малейшего сопротивления легкое… напоследок проломит и спину… к этому времени пуля уже остынет, ее интерес иссякнет — и она, удовлетворенная таким исполнением ее судьбы (вернее — безразличная, как и все, что потеряло энергию), равнодушно влепится в кирпичи стены. А если головку пули специально для такого случая разрезали крестом, то она не проткнет, а порвет все внутри, разворотит спину, и вырвет из нее такой шмат… Плохо иметь развитое воображение. Оно и в обычной жизни ни к чему, только усложняет жизнь, а уж перед лицом насильственной смерти… нет, оно не предает специально, а получается, что лишает способности к сопротивлению. Не было б воображения — думал бы сейчас, перед лицом смерти, о самом лучшем, что пережил в своей жизни, а была бы воля посильней — не думал бы вообще ни о чем…
Палец немца играл на спусковом крюке: то прижмет, то отпустит. Чтобы прижать чуть сильней, до выстрела, ему чего-то недоставало. Немец растягивал удовольствие. Он уже готов был выстрелить, но чуть-чуть не созрел. Надо было отвлечь его, отдалить созревание разговором…
Залогин опять (теперь для немца; чтобы произвести на него впечатление) потер ладонями залитое потом лицо, потряс головой и взглянул на немца так, словно после сна никак не может сообразить — о чем, собственно, его спрашивают.
— Простите, господин солдат. Я только что проснулся. Повторите, пожалуйста, что вы сказали.
Немец не ждал услышать родную речь.
Процесс созревания замер. Чувства немца уступили место мысли; вернее — попытке мысли. Но к этому он не был готов, и потому только повторил вопрос:
— Почему доски оторваны?
Вопрос дурацкий; ведь и так понятно — почему. Немец говорил невнятно, да еще и на каком-то диалекте. Усиливая свою реплику, он указал на окно кивком головы и стволом винтовки. Слава богу, она нашла себе иное применение.
Залогин глянул через плечо, показал, что удивлен.
— Не могу знать, господин солдат. Вы же видите — я спал. И я здесь.
Солдат подумал. Действительно, к этому пленному придраться было не за что. Впрочем, он ведь и не собирался придираться, он собирался убить, но момент был упущен, и теперь все нужно было начинать сначала.
— Вечером забьешь окно прочно. Я сам прослежу. Если повторится — у тебя будут неприятности.
— Слушаюсь, господин солдат.
— Когда с тобой говорит германский воин — нужно вставать.
Залогин вскочил.
— Виноват, господин солдат.
Немец был выше Залогина почти на голову. Он пренебрежительно поглядел на пленного сверху вниз, поддел стволом винтовки свисающий почти до полу расстегнутый залогинский ремень, иронически хмыкнул и прошел дальше. Залогин сел. В душе, в голове, в теле была пустота. Потом он осознал дрожь. Она образовалась где-то глубоко-глубоко внутри и разрасталась, ища выход наружу. Хорош я буду с трясущимися руками!..
Залогин закрыл глаза и приказал себе: расслабься. Не помогло; в кончиках пальцев дрожь уже пробивалась наружу. Ну как же я мог забыть уроки отца! — спохватился Залогин. — Ведь в такой ситуации нужно действовать не через ум и волю, а через тело… Он расслабил и опустил плечи, расслабил таз, и бездумно погрузился в тело, как под воду. Он забыл о дыхании, и когда воздуха не хватило, — вздохнул полной грудью и открыл глаза. Лишенные энергии, рваные остатки дрожи затихали. Сердце билось ровно. Немец успел отойти метров на пять. Он не мог настроиться на прежний лад и срывал зло на каждом. Ловит, ловит необходимое состояние души…
Залогин повернулся к Тимофею. У того в руке была фляга. Лицо посветлело по сравнению со вчерашним: темные круги под глазами не исчезли, но утратили синеву. Взгляд не обещал ничего доброго.
— Красноармеец Залогин! — Тимофею было непросто погасить свой поставленный сержантский голос до шипения. — С чего вдруг ты этому гаду жопу лизал?
— Никак нет, товарищ сержант. — Залогин никогда не думал, что сможет ответить так жестко. Он не собирался противостоять командиру — так получилось. — Я действовал — как меня учили мои командиры. Кстати — и вы, товарищ сержант, тоже.
— Это как же я учил тебя действовать?
— По обстоятельствам, товарищ сержант. Я учитывал то, что было у немца на уме.
Тимофей подумал.
— И что же было у него на уме?
— Ему надо было кого-то убить, и я для этого подходил идеально. — Залогин показал на открытую амбразуру окна.
— За это?!. — У Тимофея не было слов для комментария, и он решительно отрезал: — Не имеет права.
— Вы не рассмотрели его, товарищ комод. А я с ним был глаза в глаза. Он искал жертву.
— Не понимаю…
— Может, он встал не с той ноги, — сказал Залогин, и опять взглянул на немца. По спине немца было видно, что он уже справился с ситуацией и вернул себе прежнее состояние. В нем все замедлилось и концентрировалось, как перед прыжком. — Может, у него принцип такой, — сказал Залогин. — С утра пристрелил кого-нибудь — и свободен… Но мне почему-то думается, что все куда проще.
— То есть?
— У меня было чувство какое-то смутное… Знаете, товарищ командир? — что-то знакомое; словно подобное я уже видел не раз… И только сейчас я вспомнил, и теперь я уверен: у него такая роль! И, как любой плохой актер, он старается исполнить эту роль как можно натуральней.
Немец был уже в углу коровника. Туда инстинкт занес самых робких. Немец наконец выбрал жертву — совсем мальчишку, который от ужаса уже ничего не соображал, и отзывался на карканье немца только рваными междометиями. Голодное дуло плавало перед ним, тычась то в лицо, то в шею, то под ключицу; немец все громче каркал, распалялся; не в силах встать на ватные ноги, парнишка сидя сдвигался назад, назад, в сумрак угла, судорожно отталкиваясь каблуками. Вот уперся плечами в угол… В этот момент и прогремел выстрел.
В коровнике, наполненном гулом голосов, образовалась тишина. Было слышно только кррр-криии — поскрипывание воротных петель. И вдруг:
— Ах, Пауль, Пауль! Ну что за несносный мальчишка! Когда ты поймешь, наконец, что они — люди. Каждый из них — человек. Хоть они и не верят в Бога — у каждого из них есть душа… Ах, как нехорошо!..
Голос звучный, наполненный нескрываемой иронией. Его обладатель — маленький, бочкообразный, — стоял в выбеленном солнцем прямоугольнике ворот. Он повел головой, пытаясь разглядеть пленных, сообразил, что не только он плохо их видит, но и его трудно разглядеть, — и сделал несколько шагов вперед. Теперь все увидели, что это фельдфебель: на обшитом галуном погоне тускло белела четырехугольная звездочка. Он был затянут в ремни. Его круглое лицо украшали усы, крутую грудь — Железный крест 2-го класса; пояс заметно оттягивал большой пистолет в новенькой, цвета молочного шоколада, кобуре, которую он носил на животе.
— Мне нужен человек, знающий немецкий, — сказал он. — Ну-ну! — не стесняйтесь. Переводчику будет хорошо. Он будет при мне, а это значит — освобожден от физической работы.
Из толпы вышел старший сержант. Фельдфебель взглянул на него опытным глазом, поморщился. Возможно, он предпочел бы, чтоб у него на подхвате был офицер. Но это дело поправимое.
— Переведи: мы будем восстанавливать аэродром. Работа простая, но ее много. Работать нужно хорошо. Очень хорошо. Саботажа не допущу. К вечеру постараюсь добыть для вас еду. Для тех, кто заслужит. А кто не работает, — фельдфебель смешливо сморщил нос и развел руками, — тот не ест. Все.
Из толпы выдвинулся капитан.
— Согласно международному праву, вы не можете принуждать нас работать, тем более — на военных объектах.
Сержант лихо переводил туда и обратно.
— Господин фельдфебель говорит, что он и не собирается никого принуждать. Кто не может работать — не получит еду; кто не хочет — будет объясняться с Паулем.
— Позвольте еще вопрос, господин фельдфебель.
— Слушаю.
— Как быть с ранеными? Сорок три человека нуждаются в срочной госпитализации.
— Раненые — не моя забота. Обращайтесь в Красный Крест.