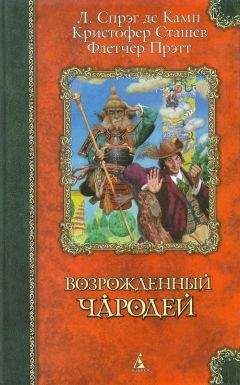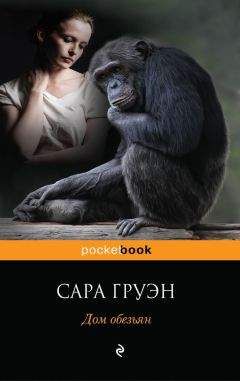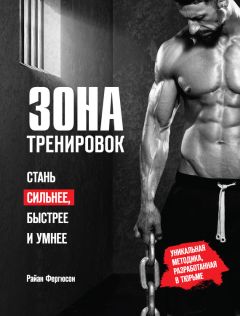молодая трава. Стены его облупились так, что о прежнем его цвете можно было узнать лишь из достоверных рассказов его старого хозяина – Павла Петровича Савина, а о самом Павле Петровиче из страшных воспоминаний сорок второго года.
Уже третье колено Савиных, в лице Павла Петровича, жило в этом неправильно построенном сооружении. Множество входов и выходов и неотапливаемых веранд делали проживание в доме, как минимум, не очень удобным. Второй этаж не отапливался никогда, так как печка на нем выглядела не лучше сваленных в кучу кирпичей, поэтому, в полном своем величии был именован "Летним гнездом". Дом чудом уцелел в военные годы, его не трогали ни бомбы, ни снаряды.
Наверху жила беременная женщина, муж ее был на фронте. Очень часто она отказывалась спускаться вниз, к печи, и с ног до головы куталась в свитера и шубы. А в те редкие случаи, когда она спускалась, хозяева все равно не слышали от нее ни звука, а сама она, в телогрейке и валенках, забивалась куда-нибудь в угол, вечно растрепанная и с осунувшимся лицом.
Оставшуюся комнату нижнего этажа занимал Лев Дубай. Старики постоянно его о чем-нибудь спрашивали, им все было интересно, и так как у Дубая не было друзей, то он все рассказывал именно им. Так Савины узнали, что Лев детдомовский, родителей своих не знает и не помнит.
Со временем дом обветшал, со стен осыпалась штукатурка. Большую печь зимой протопить было трудно, поэтому топили «буржуйку», она стояла в центре небольшой комнаты. Сначала все по очереди ходили за дровами, но когда уже не было сил далеко идти, стали топить мебелью.
Внутри было очень темно – забитые фанерой окна совсем не пропускали редкий солнечный свет. Фитилек на столе кухни создавал крошечный кружок света, превращая полный мрак в более приятный полумрак.
В доме
Перед Павлом Петровичем лежала раскрытая книга. Она называлась «О собаках и людях», старик читал ее вслух каждый вечер, иногда передавая свои обязанности жене. Это было их маленькой традицией, вроде сказок перед сном.
«О собаках и людях» была небольшим сборником рассказов и выдержек из статей о добре и зле, чести и бесчестии и прочих нравоучительных историй. Отчасти, литература, на которой строилось воспитание личности, если, конечно, эта личность хоть что-нибудь поймет в таких заумных формулировках. Некоторые рассказы вызывали у Льва интерес, и иногда он просил прочитать еще, но были и те, что нагоняли смертную скуку и клонили в сон. В такие минуты он осторожно поглядывал на лежащую в углу скрипку, но так и не решался на ней заиграть.
Стоит заметить, что не играл он уже очень давно. Мелодии не давались музыканту, ускользали и прятались в темных закоулках сознания, а смычок зачастую просто вываливался из рук. «Подводишь меня старуха, – огорчался мужчина и откладывал свой инструмент, – и что с тобой стало?». Но скрипка отвечала на это загадочным молчанием.
***
Лев таращился на раскрытую книгу, оставленную на столе стариком, на множество строчек и символов, и вдруг его взгляд переметнулся на небольшой столбец внизу страницы.
– Читаешь? – Павел Савин подошел незаметно. – Интересно?
– Нет, просто смотрю.
– А что же? Ты можешь взять ее почитать, я не против.
– Я не умею читать.
Старичок облокотился на стол, скорчив неподдающееся описанию лицо, и принялся хмыкать, как обычно, в знак того, что над чем-то думает. Лоб его ненадолго покрылся морщинами, и лицо приняло очень грозный и сердитый вид.
– То есть, как? Совсем не умеешь? – Наконец спросил он.
– Совсем. – Согласился Дубай. – Скажите мне, что здесь написано? – Он указал на столбец, явно выделяющийся из всего печатного массива.
– Здесь? – Павел Петрович поправил очки и согнулся еще больше над столешницей, как бугристый утес над ровным полем и, запинаясь, прочитал:
Собака виляла хвостом.
В глазах ее – радостный блеск.
Собака гонялась за старым котом.
Увидит – облает, догонит – съест.
Собакой правил инстинкт.
Собака стояла на задних лапах,
Когда ей давали обломок кости,
И хвост вилял собакой.
– Что это значит?
– Что-то вроде того, что мы должны делать то, чего сами хотим, а не то, что нам положено.
– А чего Вы хотите?
– Ну, сейчас, например, я хочу спать.
– И разве Вам не положено?
– Положено. – Усмехнулся старик, разгибаясь и держась за поясницу. – И я это делаю. Вот видишь, сейчас хвост виляет собакой. Иногда очень трудно бороться со своими инстинктами. – И, положив очки на стол, он направился в свою комнату, успев подумать лишь о том, что хвост собаки, как и его жизнь, с каждым днем не удлиняется. А потом, подивившись своей глупости, отбросил все мысли. Но именно этот незамысловатый случай оставил маленькую страничку в истории. Именно это побудило старичка вести свой дневник.
Из дневника Павла Петровича Савина
Очень холодная зима. Долго не мог сесть и написать эти строки из-за жуткого холода. Понимаю, что это надо: больше для душевного успокоения, нежели для потомков. Да, никогда не думал, что придется испытать такое, а если выживем – будет, о чем вспомнить.
Не знаю, почему снаряды не трогают наш с Любкой дом. Раньше, как только заслышим рев снарядов, сразу прячемся в подвал и таимся, как трусливые мыши. Уж не знаю, что произошло – то ли одурели, то ли осмелели, а все сидим и смотрим в окно, как взлетают к небу чужие дома. Жалко, конечно, да вот слез всех не выплакать. Слышен свист и взрыв.
Больно смотреть, как Любка делит свой ломоть хлеба на маленькие кусочки, а соседка наша, Танька, с верхнего этажа, и вовсе не спускается к ужину. Одного только Льва Яковлевича, второго нашего сожителя, как будто не волнует все происходящее. Сидит и таращится на свою скрипку, но ни разу не играл на ней. Жалко и его тоже, детдомовский, ни читать, ни писать не умеет. Ну не учить же мне его сейчас этому. Однако, не смотря на все, славный малый.
Раньше пытались шутить, но сейчас уже не до смеха. Пару месяцев назад, с утра немец начинал артиллерийский обстрел из орудий, снаряды рвались очень близко, когда немножко успокаивалась эта музыка, отправлялись со Львом Яковлевичем за водой. Помогает он мне исправно, а последнюю часть пути и вовсе ведро за меня нес. Накипятили, пьем. У кого воображение получше, еще и представить могут, будто чай пьем. А все одно – главное, чтобы вода была, без нее никак.
Тошно писать об этом, а сделать ничего не могу. Даже в