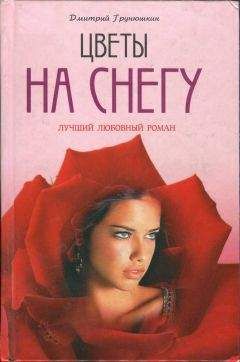Мне было неудобно — я не любил грубости и хамства, и стеснялся так резко одергивать людей, но Соин, севший на место врача, которого прогнал, по сути, был прав. Конечно, врач это интеллигентный и нужный в полку человек, но командир, комиссар и начальник штаба, порой, обсуждали за завтраком вопросы боевых действий полка, не предназначенные для медицинских ушей. Правда, я попытался немножко пожурить Соина, но он категорически настаивал на своем. И вот с этим человеком-мотором меня свела судьба, и, скажем прямо, не совсем внятные инструкции, наставления, уставы и табель о рангах Красной Армии. Ведь по уставу начальник штаба являлся первым заместителем командира.
А наши политотдельские начальники без конца нам твердили, так оно и было, что начальник штаба берет на себя управление всей частью только в отсутствие командира, а при его наличии он командует лишь личным составом штаба. Зато комиссар всегда является прямым начальником и что еще более важно, политическим руководителем всего личного состава, в том числе начальника штаба и командира.
Думаю, эти взаимоотношения в силу их зыбкости и неопределенности, устроенных специально, отличались большой неустойчивостью и порождали постоянные конфликты между комиссарами — замполитами и начальниками штабов — конфликт носил порой скрытый, а порой открытый характер и, в конце концов, побеждал тот, у кого было больше характера. В нашем психологическом поединке с Соиным у меня было неоспоримое и важнейшее преимущество: в отличие от него я постоянно летал в бой и потому, если он ел свою летную норму, как начальник штаба, то я не как комиссар — брехунец, а как боевой летчик. Когда, примерно, через год, обстановка немного изменилась к лучшему, и институт комиссаров вновь упразднили, то Валик Соин сразу же подкатился ко мне с разговорчиком: мол, теперь мы с тобой, Пантелеевич, на равных. Но я сурово нахмурил брови и объяснил, что товарищ Сталин, прежде всего, Генеральный секретарь ЦК ВКП/б/, а уже потом — Верховный Главнокомандующий. Соин долго бродил в раздумье, но ничего достойного этому тезису противопоставить не смог. А вообще удивительно, как он умел создать вокруг себя авторитетную ауру. Даже его грубость воспринималась как достоинство, что, впрочем, было типично для Красной Армии. Были бы командир и комиссар послабее, глядишь, Валик и играл бы в полку первую скрипку, к чему без конца стремился, старательно избегая, впрочем, боевых вылетов. Полагаю, что фигуру Соина, который еще не раз будет возникать на страницах этого повествования, я, несколькими штрихами, очертил. Скажу только, что чрезмерная ухватистость не пошла особенно на пользу Валентину — Соловью Разбойнику.
Очень поднимал боевой дух полка его штурман, старший лейтенант Тимофей Гордеевич Лобок. Этот белорус, лет двадцати шести от роду, хороший летчик и штурман, был знаменит тем, что весьма смахивал на Гитлера. Эта роль пришлась ему по душе. Нередко, входя в летную столовую, он опускал чуб на глаза, зажимал между носом и верхней губой кусочек черной расчески и, выкинув правую руку в древнем приветствии римских легионеров, принятом на вооружение нацистами, орал: «Хайль!» Тимофей и всей своей фигурой был очень похож на Адольфа — этим именем и звали его в полку. Даже наш особист старший лейтенант Лобощук, порядочная сволочь, позже умерший от доброй дозы древесного спирта, принятого вовнутрь, смеялся вместе со всеми над проделками Тимофея и не сочинял на него соответствующего донесения. Особой гордостью Лобка были успехи в любовных делах: встречаясь с разными девушками и женщинами, порой, по достоверной информации, зараженными гонококком Нейсера, Тимофей ни разу не болел триппером. Не брали его и немецкие пули с осколками. Впрочем, в самом конце войны, уже в Чехословакии, недалеко от Брно, и на старушку напала прорушка. Врач батальона аэродромного обслуживания, женщина лет тридцати, старший лейтенант медицинской службы, таки пробила иммунитет Тимофея — так обслужила его хроническим триппером, что целый месяц наш полковой врач только тем и занимался, что подбирал лекарства — все бесполезно. Подключились и чешские специалисты, применившие лекарство — артигон, поднимавший температуру до 40 градусов. Все бесполезно. Лишь большие вливания сульфадимезина в вену прекратили течь в хозяйстве Тимофея. Вот как плохо было жить без пенициллина, который появился уже в самом конце войны. Фигура доблестного Тимофея, ставшего после войны командиром полка под Ленинградом, тоже будет возникать на наших страницах. О других своих товарищах буду рассказывать по ходу дела. Собственно, я рассказал об этих людях потому, что в боевых действиях возникла небольшая пауза: майор Пушкарь принял наш полк на довольствие, и мы пару дней отъедались, ничего не делая — лишь наблюдая колоссальные пожарища в Сталинграде и слушая мощнейшую канонаду. Уже было ясно, что город немцам не взять, но было удивительным, почему наши решили зацепиться на самом последнем и крайне неудобном рубеже. Ведь снабжая войска, оборонявшие Сталинград на переправах через Волгу, мы несли, пожалуй, не меньше потерь, чем на передовой. На наших глазах немцы утопили несколько теплоходов речного флота, вывозивших раненых с правого берега и подвозивших продовольствие и боеприпасы с нашего. Почему же так получалось, что наши войска всегда оказывались в невыгодном положении?
Я внимательно присматривался к моральному состоянию людей — они немного оттаяли, часто вспоминали погибших товарищей. Как всегда, говорили о тех, кого в полку любили и уважали, кто запомнился. Память об этих людях потихоньку угасает вместе с убытием личного состава раненными, откомандированными или убитыми. Добрым словом вспоминали командира первой эскадрильи капитана А. Воронина, который благополучно покинул свой загоревшийся в воздушном бою «ЛАГ-3» и уже почти приземлился на харьковскую землю, когда его метров со ста расстреляли собственные пехотинцы, очевидно принявшие за немца, хотя он им кричал сверху: «Не стреляйте, я свой!» Что ж, я прекрасно знал, что наш собственный отечественный дурак, безумно выпучивший налитые кровью глаза и что-то с перепугу орущий с пеной у рта, на фронте нисколько не менее опасен вооруженного неприятеля. Только грустно, что пехотинцы не понимали простой вещи — летчика всегда нужно попытаться пленить, чтобы получить нужные сведения. Вспоминали и тяжело раненного в ногу командира звена, лейтенанта Ивана Дмитриевича Леонова, направленного в астраханский госпиталь. Этот же полк не так давно потерял подряд трех братьев-летчиков по фамилии Горамы. Младший из них — Виктор — геройски сражался в небе над Киевом и был награжден Звездой Героя. Двух других братьев звали Николай и Михаил. К моменту Сталинградского сражения в полку остались о них лишь воспоминания. Я уже рассказывал о комиссаре эскадрильи Журавлеве, погибшем во время налета трех девяток «Ю-88» на аэродром Воропоново. Не сумели прикрыть этот аэродром и новейшие «ЯК-1» — «краснокожие» Васьки Сталина, которые после того налета сразу скрылись со Сталинградского фронта в неизвестном направлении. Нужно было сберечь драгоценную жизнь Васьки. Хотя, казалось бы, кому, как не этому полку, где, как нам объявили, были собраны лучшие асы со всех советских ВВС, следовало помериться силами с авиационной группой «Удота» — летчиков и инструкторов Берлинской школы высшего пилотажа и воздушной стрельбы. Эта довольно немногочисленная группа, как и асы группы Рихтгофена, наносила нам очень большой урон. По-прежнему сохранялось преимущество немецкой техники: самолет «МЕ-109-Ф» развивал скорость до 600 километров, а наш, самый современный «ЯК-1», всего до 500, а значит, не догонял в горизонтальном полете немца, что мы хорошо видели, наблюдая за воздушными боями над Сталинградом с противоположного берега. И, конечно, очень заметна была неопытность наших пилотов. Однако в случае, если в поединок с немцем вступал наш опытный ас, то ему удавалось довольно удачно использовать преимущества нашей машины в маневре.
Но не отдыхать же все время под крылом майора Пушкаря в деревне Верхняя Ахтуба — нужно было как-то приводить полк в боевое состояние. Мы с Соиным принялись разыскивать штаб нашей восьмой воздушной армии. А где же еще было узнать место дислокации ее командующего, генерал-майора Тимофея Хрюкина, как не у командования полка, базировавшегося на аэродроме Средняя Ахтуба. Мы с Соиным зашли в штаб к соседям и выяснили, что командующий армией расположился километрах в трех от села Верхняя Ахтуба к югу, командный пункт врылся в склон оврага. Прежде, чем туда направиться, мы с Соиным решили немножко передохнуть в холодке, здесь же на аэродроме, наблюдая взлет истребителей, уходящих на боевые задания: взлет и посадка, зрелище вечно волнующее сердце летчика, невольно сравниваешь летный почерк пилотов, ставишь себя на их место. Да и что скрывать, взлет и посадка, хотя бы и в стотысячный раз, это всегда игра со смертью. Матушка-земля ревниво относится к своим сынам, предпочитающим, хотя бы и на время, воздушную стихию, и нередко не хочет отпускать их или принимать назад, как жена изменившего мужа. Мы с Соиным сидели в холодке, я поймал лохматого щенка с вывалившимся от жары языком, и рассматривал его лапы. И здесь старуха-смерть, в который раз, со свистом провела своей косой над моей комиссарской головой. Один из «ЯКов», взлетавших парой, при заходе на разворот, вдруг резко отвалил от своего ведомого и, перевернувшись, принялся уходить в сторону. Всякому летчику было понятно, что самолет неуправляем. Видимо, что-то произошло в системе управления, возможно, в нее попал какой-нибудь предмет при ремонте или что-то лопнуло, а, возможно, была недотянута какая-нибудь гайка — жизнь летчика в плену таких мелочей. Пилот самолета, летевшего вниз головой, судорожно пытался выровнять машину, это было видно по отдельным покачиваниям крыльев, но ручку управления заклинило намертво.