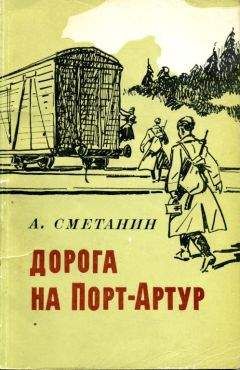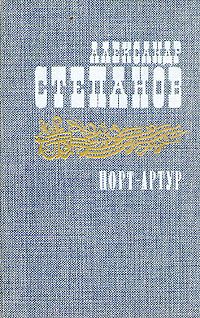Мы сидим в моей ячейке вдвоем с Арменом Манукяном. Я знаю, одному такие артналеты переносить довольно «грустно», особенно если ты новичок на фронте, и поэтому даже в нарушение приказа позвал Армена к себе.
Почему в нарушение? Да потому, что при сильных артобстрелах нужно каждому находиться в своей ячейке: в случае прямого попадания в нее будет убит или ранен только один человек.
Мы сидим с Арменом спина к спине, накрывшись плащ-палаткой, чтобы не сыпалась за ворот шинелей мерзлая земля. При каждом близком разрыве Армен вздрагивает, теснее прижимается ко мне. Ему страшно. Мне — тоже. А так как я — его командир, то не имею права это показывать.
Приподнимаю плащ-палатку, смотрю в небо. Его не видно. Плотный, липкий туман стелется над самой землей. В нем с трудом просматриваются сосны на опушке леса.
Опять вонь взрывчатки, грохот, сполохи взрывов в предрассветной мгле, опять качается земля под сиденьем кресла, на котором разместились мы с Арменом.
Но все это для меня, например, стало уже несколько привычным. Знаю, что разрыва того снаряда или мины, которые адресованы фрицами лично мне, все равно не услышу.
Слева, шагах в десяти от нас, должен находиться в своей ячейке Пирогов. За ним — Сивков. Когда гитлеровцы перестанут стрелять, нужно будет обойти все отделение и осмотреть позицию, убедиться, нет ли потерь. Хотя обойти позицию сейчас сложно, траншея, кроме наших ячеек для стрельбы, забита представителями всех родов войск.
— Армен!
— Я, товарищ командир.
— Терпи. Когда невмоготу будет, в рукав шинели зубами вцепись.
— Есть, товарищ командир.
Молодец Армен. Сидит и не порывается сбежать куда-то. У меня, к сожалению, была такая думка в первом бою.
Наконец-то открывают огонь наши. Тысячи орудий и минометов по чьему-то магическому слову одновременно изрыгают столько же снарядов и мин, и весь передний край обороны противника мгновенно окутывается огнем и дымом. Грохот, постепенно перерастающий в гул, все усиливается, в нем глохнет голос вражеских батарей, реже и реже рвутся «гостинцы» с той стороны, сосны за нашей позицией перестают вздрагивать, с них осыпаются последние сорванные взрывной волной иголки.
— Армен, — я вскакиваю с теплого сиденья, — ступай в свою ячейку, наблюдай за результатами нашей артподготовки. О всем замеченном докладывай мне!
Манукян уходит, а я отправляюсь вдоль траншеи проверять боевое состояние своего отделения. Пирогов на месте. Он сидит не в своей ячейке, а в ходе сообщения, ведущем к ней из траншеи. Сидит, подняв воротник полушубка (Пирогов один в отделении щеголяет в нем), и курит самокрутку, тупо уставившись взглядом в противоположную стенку хода сообщения.
— Ну как, Пирогов? — спрашиваю больше для порядка.
— Как видишь, — не поднимая головы, отвечает он. — Еще вопросы будут?
— Не будет вопросов. Напоминаю: из траншеи выходишь по моей команде: «В атаку, вперед».
— Да ладно, — отмахивается Пирогов и снова затягивается самокруткой.
В отделении потерь нет. Сивков смотрит из ячейки, как стреляют по немцам орудия прямой наводки. Таджибаев рассовывает по карманам пачки автоматных патронов. Тельный нашел нового «земляка» среди санитаров и о чем-то толкует с ним. Ясно одно: вражескую контрподготовку все перенесли стойко, а под свою плясать можно.
Но вот сто пять минут подходят к концу. Раздается последний, как бы заключительный залп «катюш», после которого, я знаю, послышится команда младшего лейтенанта: «Взвод, в атаку, вперед».
Выглядываю из траншеи. Ничего не видно. Как в молоке рвутся снаряды орудий прямой наводки. Черный дым, смешанный с туманом, тяжелым ощутимым пластом висит над передним краем обороны немцев. Чтобы чем-то унять волнение перед броском вперед, выгребаю комья земли из приступочков в стенке траншеи, по которым буду из нее вылезать.
Вот и команда младшего лейтенанта. Я должен продублировать ее, сказав вместо «взвод» «отделение», но неожиданно для себя говорю совершенно другое, вовсе не уставное:
— Сивков, Тельный, пошли! Все пошли!
Пойдут ли? Найдут ли в себе силы оторваться от земли? Нашли. Все нашли. И Пирогов, и Манукян, и Таджибаев.
Они вылезают из траншеи и вместе с 816-м, перевалившим через траншею между мной и Манукяном, атакуют противника.
Радостно кричу «Ура!», единым духом вырываюсь вперед, скорым шагом иду по следу гусеницы. Перестроившись в две маленькие колонны, ко мне сходится все отделение. Все идет, как на учении.
Почему молчат немецкие пулеметчики? 816-й грозно водит стволом вправо, влево, как бы отыскивая их в черной пелене, но те не подают голоса. Что за наваждение? Неужели подпускают ближе?
Под гусеницами танка начинают лопаться противопехотные мины, в лицо летят комья земли, снег. Но это все не страшно. Не наехал бы наш танк на непротраленную противотанковую. Тогда друзьям-танкистам придется невесело, а мы останемся без броневого прикрытия.
К нам кто-то бежит. Ага, это связной от командира взвода. Что за приказ несет?
— Кочерин, — кричит связной, — младший лейтенант приказал ускорить движение. Немцев в первой траншее нет...
Понятно! Гитлеровцы заблаговременно отвели свои войска во вторую и третью траншеи.
Но как сообщить об этом танкистам? Нужно обогнать танк.
Когда мне это удается, сигналю механику рукой, чтобы увеличил скорость.
Вот она, первая траншея вражеской обороны. Она вся исклевана снарядами и минами, снег на ее бруствере почернел, проволочные заграждения разбросаны взрывами, колючка наматывается на гусеницы танка и вместе с кольями ползет следом за машиной, уже переваливающей через траншею.
— Отделение, за мной!..
Мою команду внезапно заглушает серия мощных разрывов, в промежутках между ними слышится непрерывный стрекот десятков пулеметов. Туман и тот, кажется, становится теплым.
— В траншею, — успеваю крикнуть и первым прыгаю в пахнущую порохом щель.
Лежим вповалку, друг на друге. Фрицы отлично пристреляли свою первую траншею, сделали это, очевидно, загодя, с умыслом, и теперь кладут снаряды и мины точно, добавляя к ним ливни автоматных пуль.
Эх, погода, погода! Будь ты неладна! Как бы к месту была нам сейчас помощь летчиков.
Да что летчиков! Танкисты, артиллеристы и те, наверное, кусают себе локти, кляня этот туман.
Интересно, где 816-й? Стоит, наверное, в чистом поле, осыпаемый свинцом и сталью.
К нам по траншее, перепрыгивая через брошенное немцами снаряжение, приближается связной.
— Младший лейтенант сказал: как будет красная ракета, всем вперед, ко второй траншее.
Связной убегает. Я поднимаю отделение со дна траншеи и жестами приказываю рассредоточиться. Успеваю заметить: в глазах наших молодых страха не видно. Только Пирогов двигается, как манекен. На его лице — ни кровинки.
— По сигналу — красная ракета — всем в атаку. Приготовиться!
Иду по траншее вправо, к месту ее стыка с ходом сообщения. Вот оно, это место. Но ход сообщения завален ежами из колючей проволоки.
Артиллерийский и минометный огонь противника несколько ослабевает. Сейчас, наверное, будет подан сигнал атаки. Так и есть. Ракета взлетает в небо и вспыхивает бледно-розовым дрожащим пятном.
— Отделение, в атаку впере-ед!
Выбираюсь из траншеи первым. Слева и справа тоже вылезают. Пригибаясь, иду скорым шагом по следу танка. Его пока не видно, но уверен, что он должен быть тут, где-то рядом.
Гитлеровцы, кажется, только того и ждали. Они обрушивают на нас такой шквал огня, что едва успеваем откатиться назад и снова юркнуть в траншею.
Нахожу какую-то нору, устланную жердями, и ныряю туда. Ладно, фриц, колоти: мы малость погодим. Все равно у тебя не хватит духу целый день снарядами швыряться.
Кажется, кто-то к нам идет. Кто это? Ага, сам командир взвода. В правой руке пистолет, в левой граната, на шее автомат.
— Почему лежите, Кочерин? Вперед!..
— Дак, товарищ младший...
— Вперед! Броском вперед! Фриц бьет наугад. Он ведь тоже ни хрена не видит. Быстро уходите из-под обстрела!
А ведь он прав. Тебя, Кочерин, еще Иван Николаевич учил: «...уходи из-под обстрела».
Мне вдруг становится веселее от этой самой немудреной истины, начинаю соображать. Ведь немцы же ведут неприцельный огонь. Они бьют не по нам, а по своей первой траншее, зная, что в ней находимся мы.
— Отделение, выйти из траншеи. Броском вперед! Пирогов — за мной!
Командир взвода убеждается, что мы поднялись и бежит на правый фланг взвода. Там, наверное, дела обстоят не лучше.
Ползу по танковому следу, прижимаясь к земле так, что иногда задеваю ее каской. Выше по-прежнему фыркают осколки, о каску бьют комья земли. Метрах в пятидесяти от покинутой нами траншеи останавливаюсь передохнуть, оглядываюсь, чтобы убедиться: не отстал ли Пирогов?