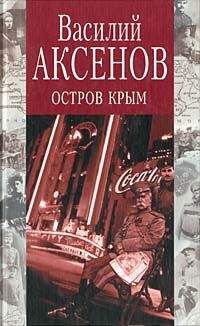Грехов выровнял машину и окликнул стрелка. Тот молчал. Летчик вытер пот со лба и увидел, как со стороны солнца пара истребителей заходит в атаку.
Это был уже перебор. Грехов вдруг почувствовал смертельную усталость. Сволочи! Сколько же их здесь? До этой минуты он сохранял необъяснимую, безрассудную надежду: не могли ребятишки сгореть в воздухе.
Немцы открыли огонь одновременно. Самолет содрогнулся и стал валиться на крыло. Из левого двигателя вырвался клуб густого дыма, а за ним — длинный оранжевый хвост.
Грехов бросил машину в крутое пике со скольжением, ушел от истребителей и через полчаса посадил исковерканный самолет на заснеженный аэродром. Все ребятишки были живы. Правда, половина из них обморозилась.
Он оставил штурмана в тыловом госпитале, похоронил второго пилота и стрелка и через неделю санным обозом добрался до Ленинграда.
В отряде уже работали новые летчики, машины Грехову не нашлось. Получение самолетов затягивалось, часть перебазировалась. Командир отряда отправил Грехова на курсы усовершенствования летного состава, где Грехов и переквалифицировался в истребителя.
Несколько вывозных с инструктором, потом — самостоятельно: взлет, посадка; зона — виражи, перевороты, петли; полеты в строю, воздушные стрельбы, учебные бои… Грехов никогда не рассказывал об этих днях, не любил вспоминать. Он хорошо стрелял и скоро крутил «бочки» и «петли» не хуже своих учителей, но плохо летал в строю. Вернее, не любил летать.
— Я тебя не выпущу, — говорил капитан Сурин. — Будешь сидеть здесь, пока не поймешь, что такое воздушный бой. В бою главное — не твоя победа! Ты в группе летишь, группа должна выполнить задание. Это же азбука, черт возьми! Чего тут не понять?.. Куда рвешься? — кричал Сурин в воздухе. — Боевой порядок расстроен! Ты не на прогулке. Держи строй! — И на земле все о том же: О других думай! О тех, кто рядом и позади тебя.
До маленького городка на Волге поезд тащился целую неделю. Оставшиеся продукты — крупу и яичный порошок — Грехов отдал кому-то на станции вместе со старой парашютной сумкой.
На пункте, где формировались команды из пополнения, Грехов оказался среди летчиков-истребителей, еще не нюхавших пороха. Они вместе дружно наседали на начальника пункта, торопили с отправкой. Молодые пилоты улыбались, глядя на коротконогого, невзрачного старшего лейтенанта, который с таким упрямством и с такой яростью добивался своего, словно хотел в одиночку выиграть войну.
— Я был на фронте! — кричал Грехов.
— Я тоже, — отвечал усталый майор с серым лицом.
— У меня полсотни боевых вылетов. Я Берлин бомбил.
— Я тоже не в кегли играл.
— Мне надо летать.
— Вы здесь не одни.
В истребительном полку Грехов снова донимал начальство, потому что его не спешили включать в боевой расчет.
— Дайте мне пару контрольных и отправляйте на задание.
— Дам я тебе пару вылетов, — говорил командир полка, — а дальше что? Машин нет.
— Вы получили три звена.
— Всего три. — Командир полка сжал виски ладонями. — Я был на этом заводе. Они там станки со станции на коровах возят, конвейер от дождя рогожей закрывают…
— Земляк!
— Я из Сибири, — сухо сказал командир полка.
— Сибирь, Урал… Какая разница!
Командир полка застонал.
— Отрава, а не человек! Не могу я идти в штаб соединения и просить самолет для Алексея Грехова.
Наконец они получили истребители, новые машины с прекрасными летными характеристиками.
Но, видать, слишком долго Грехов ждал их, слишком долго мечтал, чтобы теперь радоваться. Даже привычное счастье полета утратило для него прежний вкус.
Он возвращался с задания и бесстрастно докладывал:
— Я подошел близко, дал очередь. «Юнкерс» загорелся и упал.
— Я ударил. «Мессер» зашатался…
— Сбил ты его? — спрашивали Грехова.
— Не знаю. Я только видел, как у него отвалился кусок хвоста.
— Я дал очередь. «Мессер» разлетелся вдребезги.
— Это был Ю-86. Двухкилевой. Моя очередь прошила его фюзеляж, но он летел как ни в чем не бывало. Потом упал.
Молодые истребители недолюбливали Грехова. Они слышали, что этот мрачноватый пилот летал на Берлин, похоронил многих друзей, знали, что он числится среди лучших летчиков полка, но они не сидели с ним за послеполетной чаркой, потому что Грехов всегда молчал и никогда не заговаривал первым. Они видели непроницаемое лицо, холодные спокойные глаза, а те, кто знал Грехова раньше, говорили про эти глаза — потухшие.
Они вылетели по тревоге на перехват. Через пятнадцать минут Грехов бросил взгляд на часы. «Время, — подумал он. — Черт, где же они?» И тут услышал по радио:
— Слева по курсу самолеты противника.
Он наклонил голову и далеко внизу, на фоне холмистых полей увидел закамуфлированные тела самолетов. Это были транспортные Ю-52.
— Атакуем! — раздался голос комэска.
Грехов отдал ручку и огляделся: вся группа пикировала на противника.
— Внимание! Над нами «мессеры»!
Комэск что-то еще кричал, но Грехов его уже не слышал. Он неожиданно вспомнил декабрьский полет из Смольного, ленинградских детей, вспомнил тот страшный рейс и вновь пережил давнюю боль и бессильную ярость. Сейчас они падали на немцев, как те в ясный декабрьский день падали на них. Все было так похоже! Но теперь люди, сидевшие в камуфлированных машинах, были обречены. И тут Грехов почувствовал, что азарт охотника в нем пропал. Он прислушивался к себе и чувствовал, как гаснут в нем волнение и жар. Душа его сжалась и окаменела. Ничего в ней не осталось, кроме холодной ненависти, да и та таяла. Все перегорело в душе, запеклось, остыло, не болело… Зола.
На его прицеле качался «юнкерс» с бортовым номером 17. Указательным пальцем Грехов мягко выбрал свободный ход гашетки и дал длинную очередь. На «юнкерсе» взорвались бензобаки, он перевернулся через крыло и рухнул на лес.
— Леша! — крикнул ведомый. — Справа снизу «мессер»!
Грехов резко развернул машину, поймал немца в прицел и дал очередь. «Мессер» еще какое-то время лез вверх, потом завис, вяло качнул крыльями и, перевернувшись, посыпался к земле.
У самых верхушек елей Грехов взял ручку на себя. Выходя из пикирования, он оглянулся: из ельника поднимался к небу столб черного дыма. Поле внизу было усеяно обломками.
Его, кажется, все-таки задели: мотор покашливал. Прижимаясь к лесу, растворяясь в сумерках, Грехов заковылял домой…
— Его сбили? — спросил я.
— Нет! — Стогов сидел нахохлившись и вдруг резко выпрямился. — Грехова нельзя было сбить. Он мог летать на всем, что хоть немного походило на самолет. — Старый штурман долго молчал, глядя на меня из-под полуопущенных век, потом вздохнул, пошевелил губами и заговорил своим ровным, глуховатым голосом: — Его подожгли весной сорок пятого… Бой уже затихал. К Грехову пристроился ведомый, звал его, но Грехов молчал: пушечным огнем снесло антенну. Он только улыбался и кивал головой: мол, все в порядке, сяду. Машину шатало, но Грехов не давал ей свалиться. Внизу были брошенные артиллерийские позиции, а за ними — ровное поле. Грехов махнул ведомому: уходи! Он убрал газ, выпустил шасси и закрылки, притер машину к земле…
Поле оказалось заминированным.
Стогов сидел передо мной с усталым лицом, с поредевшими седыми волосами и говорил ровным голосом, что нет, совсем немногие из его друзей остались в живых, совсем немногие…
— На их долю выпала самая горькая пора войны, — тихо сказал он.
Несколько экипажей из оперативной группы погибли в сентябрьских боях под Ленинградом. Лазарев? Да, Сережа Лазарев был среди них. Шестнадцатого сентября не вернулись с задания шесть экипажей.
— Все наши, — сказал Стогов. — Больно вспоминать…
Да, говорил он, остались, есть еще, живут… Епринцева ранило в сорок втором, летать он больше не мог и вернулся на завод, где начинал слесарем. Наш стрелок Ваня Шинкаренко прошел всю войну, живет в маленьком городке на Украине, работает портным… Да, говорил Стогов, не забывают, пишут…
Он достал письмо.
«Жаль, Паша, — читал штурман, — что ты не приехал на последнюю встречу… Из наших были Студнев, Николайцев, Чурсин. Объявился Коля Ганюшкин. Он комендант досаафовского аэродрома. Велел тебе кланяться, говорит, что часто стал хворать…»
Стогов сказал: «Остров…» — и я снова увидел поросший вереском и сосной каменистый остров и летчиков из оперативной группы.
Они стояли на балтийском ветру, невысокие и рослые, плечистые и худенькие, как подростки, все молодые, с обветренными лицами, с воспаленными глазами и потрескавшимися от кислорода губами, в летных шлемах и унтах, с планшетками, свисавшими до колен. Они стояли плечо к плечу, смотрели на меня из дали лет, и взгляд у них был строгий и вопрошающий.