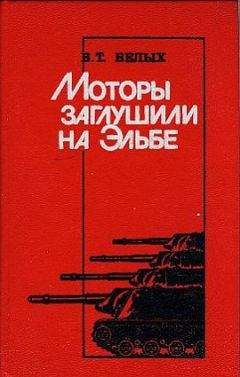Атакующие уже вплотную приблизились к окопам советских воинов, закрепившихся на левом берегу Вислы. Разведчики, как по команде, метнули гранаты. Прогремели взрывы. Уцелевшие фашисты бросились обратно к своим укрытиям.
Вскоре гитлеровцы предприняли еще одну атаку, но вновь, не выдержав дружного огня гвардейцев, откатились.
Сержант Григорий Шумигай разорвал гимнастерку лейтенанта и перевязал рану. Пуля пробила грудь выше сердца, кровь сочилась непрерывно.
Гончаров жадно припал пересохшими губами к поднесенной ему фляге. Напившись, грустно посмотрел на сержанта.
— Плохи мои дела… Продержаться бы до ночи. А там и наши подойдут…
— Позвать лейтенанта Гольденберга?
— Нет, погоди…
В тылу обороны взвода, со стороны реки, зазвучала стрельба. Гончаров настороженно прислушался: не наши ли переправились?
— Передай сержанту Тарарину, — сказал он Шумигаю, — пусть ползет к берегу, узнает, что там происходит.
Автоматные очереди были слышны еще несколько минут, потом звуки выстрелов начали удаляться вправо и влево. У реки разорвалось несколько снарядов, оттуда донеслись крики, стоны, ругань… Затем все стихло. Впереди, в окопах, противник молчал.
Что стряслось на берегу?
Наконец в окоп свалился сержант Тарарин. Он не узнал своего командира: лицо лейтенанта осунулось, стало мертвенно-бледным, когда-то живые темные глаза смотрели потухшим взглядом.
— Вы ранены, товарищ гвардии лейтенант? — спросил Тарарин, хотя и так было видно — с командиром беда. Но верить этому никак не хотелось.
— Говори, что там? — с трудом произнес Гончаров.
Сержант доложил: гитлеровцы двумя группами по 8–10 человек решили обойти нас с тыла. Сержант Тихонов и рядовой Головенский разгадали их замысел и, подпустив поближе, открыли огонь. Фашисты разбежались. На правом фланге они попали под огонь тылового охранения второго взвода.
— А чьи снаряды рвались? — спросил Гончаров.
— Не могу точно утверждать, но ребята говорят: с нашего берега била артиллерия, — ответил Тарарин.
Лицо Гончарова несколько оживилось, и он еле слышно прошептал: «Помнят о нас…» И, собравшись с силами, добавил: «Сигнал дали — держитесь!..» Это были последние слова лейтенанта.
Бойцы сняли пилотки в безмолвной клятве: держаться!
На поле боя опускались сумерки. Гитлеровцы больше в атаку не ходили, но огонь из пулемета и автоматов вели методично.
Гольденберг вызвал к себе сержантов Иртюгу, Шумигая, Базарова, Титаренко, Тарарина и рядового Романцова.
— Наше совещание можно считать и собранием партийной группы, — сказал он. — Я просил сержанта Иртюгу кроме командиров отделений пригласить и коммунистов. Не присутствуют здесь коммунисты Баранчиков и Головенский, но я передам им наш разговор и наше решение.
Гольденберг сообщил о смерти Гончарова и его последних словах.
— Командование группой принимаю на себя, — объявил он. — Моим помощником будет сержант Шумигай; старшими: в первом взводе — гвардии сержант Титаренко, во втором — гвардии сержант Базаров. Если наши не форсируют реку этой ночью, будем драться и завтра. Другие мнения есть?
— Драться до последнего патрона! — был единодушный ответ.
— Слышали бой справа, за высотами? — спросил офицер. — Это наши расширяют плацдарм. Помощь может прийти и оттуда. И все же для связи с полком надо послать на тот берег одного-двух человек. Кого пошлем? — обратился он к сержанту Титаренко. Тот, подумав, назвал сержанта Тихонова и рядового Головенского.
— Почему именно их? — спросил Гольденберг.
— Плавают хорошо. Случится что с лодкой — не утонут, выберутся. Да и за рекой весь день они наблюдали. А другие лучше изучили передний край, — ответил Титаренко.
— Что ж, решено, — подытожил Гольденберг. — Но на их место назначьте пост из двух человек.
— Не сократить ли нам фронт обороны, товарищ гвардии лейтенант? — подал мысль Титаренко. — Кроме Гончарова есть еще убитые. Да и Тихонов с Головенским уйдут.
— Не стоит, — возразил лейтенант. — Пусть гитлеровцы думают, что у нас прежние силы. Пулемет я возьму с собой и основной удар с фронта приму на второй взвод.
— Надо бы схоронить гвардии лейтенанта Гончарова, — сказал Иртюга.
— Пока не будем. Пусть остается с нами. Подойдут наши — похороним с почестями, как полагается, — ответил офицер.
Помолчали. Свернутая сержантом Тарариным самокрутка ходила по рукам. Каждый затягивался раз-другой, пряча в ладонях огонек, и передавал товарищу. О еде старались не думать. Так было легче.
— Обойдите все окопы, — снова заговорил командир. — Передайте бойцам наше решение: удерживать плацдарм до конца. Да пусть берегут патроны… За ночь необходимо усовершенствовать окопы, запастись водой. Организуйте поочередно отдых бойцов. Пароль — «Мушка», отзыв — «Москва». У меня все, — заключил Гольденберг.
— Предлагаю указания коммуниста гвардии лейтенанта Гольденберга считать нашим партийным решением, — сказал парторг. — Нет возражений?
— Какие еще могут быть возражения… Гольденберг не стал сразу после совещания посылать связных на восточный берег: как и остальные, он с надеждой ждал переправы своих. И только к полуночи, оставив Шумигаю указания на случай ночной атаки врага, ушел на берег реки.
Сержант Георгий Тихонов и рядовой Василий Головенский не спали.
— Что там, на нашем берегу? — спросил Гольденберг, спрыгнув к ним в окоп.
— А ничегошеньки, товарищ гвардии лейтенант, — ответил Тихонов. — Фашисты повесили было осветительные ракеты, но, не обнаружив ничего подозрительного, успокоились.
— Решили — ни шагу назад? — помолчав, спросил Тихонов.
— А ты как думаешь? — вопросом на вопрос ответил Гольденберг.
— Я тоже так решил, — сказал сержант.
— Кому насмерть стоять, а кому и плыть надо, — промолвил лейтенант.
Головенский недоумевающе глянул на офицера:
— Куда плыть?
— Надо установить связь с нашим берегом.
— А-а. Вон оно что, — протянул Тихонов тоном человека, которого лично это не касается.
Бойцы выжидающе молчали, еще не понимая, куда клонит командир.
— Прошу вас двоих, товарищи, перебраться на тот берег и доложить командиру полка о нашем положении, — сказал Гольденберг.
— Почему именно меня? — воскликнул Головенский. — Я вполне здоров, хочу сражаться здесь, вместе со всеми!
— Вы нас с Головенским обижаете, товарищ гвардии лейтенант, — вторил своему другу сержант Тихонов. — Разве мы плохо дрались сегодня?
— Именно потому, что здоровы и полны сил, и посылаю вас, — уже тоном, исключающим какие-либо возражения, ответил лейтенант. — А за сегодняшний бой — спасибо. Просите у командира полка помощи, если не людьми, то поначалу хотя бы боеприпасами и сухарями.
Теребун отыскал поблизости подходящее место и ночью оборудовал новую огневую позицию. На рассвете немного вздремнул: день предстоял жаркий и трудный. Николай привык к порядку, и все у него было на своем месте. Одна ниша — для гранат. Их оставалось лишь три: накануне увлекся охотой за пулеметчиками, и лишь в последнюю минуту заметил вражеских автоматчиков, бежавших к нему откуда-то сбоку. Выручила граната.
Вторая ниша — для патронов. Было их больше сотни. Каждый патрон Николай аккуратно протер платочком. Приказ командира — стрелять только наверняка, — для него, снайпера, был законом вдвойне.
Перед атакой он, конечно, не стал бы раскладывать все это, «хозяйство» по полочкам. Патроны — в сумку, «лимонки» — на ремень, и — вперед. Но в этот раз, по всему видно, вперед идти не придется. И потому надо сделать все возможное, чтобы окоп твой стал для врага неприступной крепостью.
Ниша для фляги с водой. Ночью принесли свежей, холодной. Николай взял флягу, зачем-то встряхнул ее и, хотя пить не хотелось, сделал пару глотков. Под ложечкой засосало. Теребун привычно полез в противогазную сумку, где обычно хранил пару-тройку сухарей, но кроме самого противогаза ничего там не обнаружил.
Совсем некстати в памяти вдруг всплыла полузабытая картина. Стол в отцовской хате. Вокруг — братишки и сестренки. Мать вынимает из печи большую макитру с варениками, щедро бросает в нее масло. Отец берет макитру в руки, старательно трясет ее — это чтобы вареники обдало маслом. Затем на стол: «Налетай, ребята!»
При воспоминании о варениках Николай невольно сглотнул слюну.
— Тьфу, чтоб тебя! — выругался он неизвестно по чьему адресу. Пытаясь отвлечься, принялся с остервенением чистить саперную лопатку. Впрочем, она и впрямь была грязной после рытья окопа, а Теребун не признавал нечищенного оружия или снаряжения. Почистив, опустился на корточки. Делать больше, вроде, нечего. Закурить бы, да ведь он не курит. Эх жаль! Предлагали вместо табака сахар — не взял. Глядишь, пригодился бы теперь. И он против воли снова потянулся к противогазу, но, вместо того, чтобы пошарить в сумке, со злостью махнул рукой и поднялся.