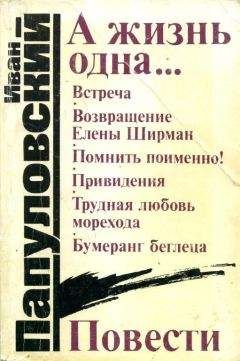Первые тяжелые бои, горечь отступления — всё сполна довелось пережить моему деду. Где-то при переправе через реку Оредеж с группой молодых солдат — остатком своей роты — и получил он первое свое ранение.
…Группа немецких мотоциклистов ранним августовским утром обнаружила пробивавшихся к своим бойцов в излучине реки, на подходе к противоположному берегу. Очереди немецких автоматов вспороли воду у самых ног, несколько человек было убито. Николай Иванович подхватил упавшего в воду рыжеволосого сержанта, помог ему выбраться на берег и спрятаться в кустах, за большим валуном.
— Ко-ля-а-а, пом-моги-и!.. — вдруг услышал он голос Бориса Зайчикова, последнего оставшегося в живых одноклассника.
Обернувшись на голос, он увидел только голову Бориса, попавшего в водоворот почти у самого берега. Схватив валявшийся на траве шест, дед бросился на помощь товарищу. Их обоих заметили немцы, но расстояние спасало от прицельного автоматного огня. Борис ухватился за поданный ему шест, выплыл к берегу, и они через кусты двинулись к лежавшему за валуном сержанту. В этот момент по всему правому берегу завыли, загрохотали немецкие мины. Одна из них разорвалась возле самого валуна, почти рядом с Николаем Ивановичем, и он потерял сознание. Но сержант и Борис, сами раненные, не бросили его. Перевязав окровавленный, искромсанный осколками мины бок Николая, они переждали минометный обстрел и поднялись к деревеньке — ее домики правее сбегали прямо к реке. Борис разыскал брошенную кем-то повозку, погрузил в нее сержанта и Николая и пустился по проселочной дороге на восток, подальше от наступавших врагов. Просто чудом ему удалось на чужой повозке доехать до окраины Слуцка — так назывался тогда город Павловск.
Врачи поначалу считали, что ранение Николая Крылаткина не представляет большой опасности, и не успели его эвакуировать на Большую землю. Но позже, чуть замерзла Ладога, пришлось все-таки переправить его в тыл — так попал молодой солдат на Урал, на встречу со своей судьбой. И только в феврале следующего, сорок второго года он вновь оказался на фронте…
«Со стороны Волхова ты тоже помогаешь Ленинграду», — эта мысль в том или ином варианте повторялась во многих письмах Анны Порфирьевны, и я понял, как Николай Иванович долго переживал, что воюет не в Ленинграде, не делит с дорогими его сердцу питерцами тяготы страшной блокады…
Зато письмо, написанное в начале февраля 1943 года, будущая моя бабушка начинала так:
«Николя мой родной, от всего сердца поздравляю! Проклятая блокада прорвана, и ты вновь на Ленинградском фронте! Как я рада за всех ленинградцев! Буду вновь проситься на фронт — и только на ваш, на Ленинградский. Ближе к тебе — и до полной победы!..»
На меня словно повеяло дыханием тех удивительных, героических дней. Горячая волна подступила к сердцу. Как восхищаюсь я вами, дорогие мои дедушка и бабушка!..
В волнении прохаживаясь по осиротевшей дедовой комнате, я ненароком взглянул в стоявшее на серванте маленькое зеркало и удивился собственному виду: красное лицо, набухшие веки, влажные глаза — такие же синие, как у деда. Не зря Николай Иванович говаривал:
— Уйду я — останется копия в моем внуке.
Внешне — да, но твою изумительную жизнь не повторит никто: другое время — другие песни.
Анна Порфирьевна попала-таки на фронт, только не на Ленинградский. Закончила войну она в Будапеште — старшей сестрой в медсанбате, в звании гвардии старшины. Награждена орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта» и другими солдатскими наградами. Откровенно писала Николаю Ивановичу в дни, когда он воевал уже в логове врага — в Восточной Пруссии, — об ухаживаниях какого-то незадачливого майора, «да ведь казачки, даже уральские, бабы огневые и в любви верные», поэтому лейтенанту Крылаткину не о чем беспокоиться… Это, так сказать, личный план, а вообще-то Анна Порфирьевна сама была настоящей героиней, спасла жизнь многим десяткам бойцов и офицеров, и письма от них долго еще приходили к ней после войны — и в Германию, и в Москву.
После полного снятия ленинградской блокады старшего сержанта Николая Крылаткина направили на курсы младших лейтенантов, но выпустили его лейтенантом и временно поселили в Москве, в казармах бывшей кавалерийской офицерской школы. Разный народ собрался под крышами этих казарм — и по званию, и по боевому опыту. Бывалый уже фронтовик лейтенант Крылаткин пользовался среди них определенным авторитетом — нередко собирались в круг майоры, подполковники и даже полковники, делились еще свежими воспоминаниями, а когда выяснилось, что молодой, всегда улыбающийся офицер — из Ленинграда, расспросам не было конца. Как жил город в блокаде, как питались гражданские и как снабжались войска, не было ли эпидемий, работал ли водопровод, трамвай?..
Николай Иванович помнит, как его после ранения на Оредеже привезли в Ленинград, на Васильевский остров, и он не узнал любимого города. Разрушений в то время еще было мало, но воздушные тревоги, аэростаты заграждения и зенитные батареи в местах, где он когда-то любил гулять с ребятами или с отцом и матерью, подчеркнутая строгость в облике ленинградцев, военные и гражданские патрули на улицах — во всех деталях жизни и быта чувствовалось, что город попал в неимоверно трудное положение. А потом начались обстрелы из дальнобойных мощных орудий — методические, беспощадные. И пришел голод — даже в госпитале нормы снижались до минимума.
Однажды утром в госпиталь приехали отец с матерью. Полковник Крылаткин был выше своего сына и шире в плечах, участвовал в финской кампании, на его груди поблескивали ордена Красного Знамени и Красной Звезды. В синих, как почти у всех Крылаткиных, глубоких глазах Николай заметил не то грусть, не то затаившуюся боль — таким и запомнил отца на всю остальную жизнь. Бывший буденовец молча взял в большие жесткие ладони голову сына, поцеловал его в губы. Мать, постаревшая, печальная, упала ему на грудь, целовала лицо, руки, даже бинты, в которые ее Николай был замотан от подмышек до пояса, и плакала беззвучно, почти не дыша. Словно чувствовала, что видятся в последний раз…
Я знаю, что мой дед очень любил своих родителей, восхищался боевой биографией отца-полковника, искренне уважал мать — учительницу младших классов, и представляю, каким ударом стало для него известие, принесенное адъютантом отца, о их нелепой гибели от фашистского снаряда, попавшего в переполненный трамвай…
Гитлеровские бомбовозы не всегда доходили до целей безнаказанно, зато артиллерийские обстрелы Ленинграда стали изощренными, жестокими.
— Гады, что делают!.. — слышались гневные возгласы офицеров, когда Николай Иванович заканчивал свой рассказ.
А кто-нибудь обязательно добавлял:
— Но ленинградцы — молодцы! В таком аду продолжать борьбу, не сдаваться!..
Не сдаваться! С детских лет я знаю и нередко возвращаюсь мыслями к подвигу Ленинграда — и вместе с блистательными шедеврами архитектуры этого города, неповторимыми набережными державной Невы в памяти всегда возникает фигура Матери-Родины, бесконечные ряды надгробных плит на Пискаревском кладбище и впечатляющий мемориал героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, открытый девятого мая одна тысяча девятьсот семьдесят пятого года. Впервые я увидел их много позже, приехав в Ленинград вместе с дедом.
Представляю, как волновался дед, ступая под своды «Разорванного кольца», возлагая цветы к скульптурной группе «Блокада», направляясь в подземные залы монумента-музея, слушая размеренные звуки метронома, если даже у нас, не знавших войны, все это вызывает благоговейный трепет в душе и застилает глаза слезами!..
Бронзовые фигуры — «Солдаты», «Летчики и моряки», «Народные мстители», «Народные ополченцы», «Строители оборонительных сооружений», гордые «Победители», — вставшие перед сорокавосьмиметровой стелой, кажутся загадочными инопланетянами, которые, даже застыв в металле, еще не стряхнули с себя порох и пепел, еще не передохнули после страшной боевой страды, продолжавшейся долгих девятьсот дней и ночей. Иногда они представляются мне таинственными видениями из невозможного далека, и мне вдруг не верится, что все с ними могло быть так, как было. Но ведь было, было!
Дед наизусть знал строки Петруся Бровки, обращенные к ленинградцам:
Огнем сердец сжигая тьму,
Вы не сдались —
И потому
Сквозь ливень слез,
Сквозь горький дым
Живыми видитесь живым.
Да, не вернулись вы с войны.
Но братья ваши
И сыны
Хранят под этой синевой
Ваш светлый жар,
Ваш дух живой.
Но мемориалы героям блокады, мужеству защитников Сталинграда, Бреста, других наших городов — все это будет потом, потом! А сейчас, в этих московских военных казармах сорок четвертого года, даже офицеры-фронтовики, побывавшие в самом пекле войны, как-то по-особенному тепло смотрели на молоденького лейтенанта Николая Крылаткина, откровенно удивляясь и восхищаясь поразительной стойкостью ленинградцев. Такого случая, такого героизма всего населения многомиллионного города не знала человеческая история. Не знал, конечно, не ожидал такого и Гитлер, планируя свой «блицкриг»!..