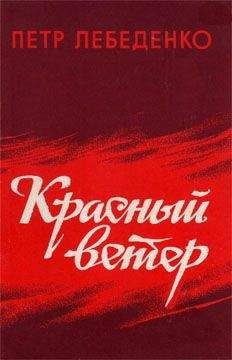И вот она опять начинает испытывать уже знакомое ей чувство, как все в ней подымается, вскипает от гнева и против него и… против себя.
Валерий это понимает. Когда они остаются вдвоем, он старается быть с ней как никогда нежным, внимательным, любящим, заботливым. Даже готовит обед или ужин, сам накрывает на стол, если Вероника собирается мыть посуду, он спохватывается, говорит: «Нет, нет, я сам, — ты полежи, отдохни». «Мне не от чего уставать», — говорит она. «Все равно, мне приятно сделать что-нибудь для тебя хорошее. Я ведь очень тебя люблю…»
Она не отвечает. Как будто не слышит, о чем он. Как будто все ей безразлично.
— А вот ты, — продолжает он, — стала ко мне холоднее. Или мне это только так кажется?
Ей очень хочется сказать: «Нет, тебе это не кажется. Ты сжег во мне все, что было. И я сожгла в себе то же самое…»
Но она этого не говорит. Не находит в себе сил, чтобы так ему ответить. Потому что после этого им необходимо будет расстаться. Совсем. Навсегда. А что будет потом?
Больше всего Вероника боится наступления ночи. Она ожидает ее, как пытку. Валерий обычно присаживается на край кровати и прохладными, подрагивающими от нетерпения ладонями начинает поглаживать ее тело, шепча что-то невразумительное, горячечное. Когда-то, не так уж давно, прикосновение его рук доставляло Веронике ни с чем не сравнимое наслаждение. Она чувствовала во всем теле приятную дрожь, ее тоже охватывало нетерпение скорее ощутить Валерия рядом с собой, слиться с ним, забыв обо всем на свете.
Сколько же веков прошло с тех пор! Сейчас все по-другому. Отстраняя его руки, она тихо говорит:
— Не надо. Я что-то плохо себя чувствую. Постели себе на кушетке.
Иногда он взрывается:
— Сколько можно плохо себя чувствовать? Каждый раз одно и тоже, одно и тоже. Я муж тебе ил чужой человек?
— Не кричи, — вяло говорит она. — Криком ты ничего не добьешься.
Пока он устраивается на кушетке, Вероника делает вид, что уже уснула. Но проходит и час, и другой, бывает, что и тонкие лучики рассвета уже пробиваются сквозь щели в ставнях, а она еще и глаз не сомкнула. — Лежит на спине, уставившись в едва сереющий потолок, и все думает, думает, думает. О чем? О разном. Иногда ей хочется тихонько встать и бежать к Полинке, упасть перед ней на колени и обо всем рассказать. Но желание это быстро проходит: Полинка счастлива тем, что Федор жив, Полинка ни на йоту не сомневается, что война скоро закончится и Федор ее вернется к ней и они снова будут вместе. Как-то, случайно встретившись (обе прогуливались у края тайги), Полинка сказала: «Мы дали с Федей слово: как только он вернется с фронта, мы постараемся, чтобы я сразу забеременела. Мы почему-то оба уверены, что у нас будет сынишка. Этакий белоголовый мальчуган, которого мы тоже назовем Федей. Представляешь, Вероника, какое это будет счастье!»
От этого светящегося в ней счастья, которого она ожидает, Полинка на глазах у Вероники расцветает, черты ее лица преображаются, в них читается что-то возвышенное, почти неземное, и Вероника со скрытой печалью думает: «А мне такого не дано. Я никогда теперь не смогу быть такой безмятежно счастливой, как Полинка. Потому что никогда не забуду того, что сделала…»
Вероника сказала, устремив взгляд на Валерия:
— Ты говоришь, что на войне награждают почти всех. Значит, по-твоему, на войне все герои? Нет ни трусов, ни предателей, нет таких, которые прячутся за чужие спины? Слышишь? Я спрашиваю: нет таких, которые прячутся за чужие спины?
Валерий ответил не сразу. Такой обозленной; взъерошенной, едкой Веронику он еще не видел. И ничего подобного от нее не слышал. Для них обоих даже намеки на то, что случилось той ночью, когда она ходила к Мезенцеву, были вроде табу. Они могли про себя думать все, что угодно, но говорить вслух о том, что тогда произошло, они не смели. Понимали, что каждый из них фальшивит сам с собой, каждый лицемерит, и все же никогда этой темы не касались. Веронике от этого не было легче ни на каплю. Наоборот, она чувствовала себя так, словно внутри у нее происходит сложный процесс какой-то химической реакции: там все время накапливается нечто не поддающееся ее пониманию, схожее с кипением лавы в непроснувшемся еще вулкане; все клапаны закрыты, никакого выхода увеличивающемуся внутреннему давлению нет, и она живет в постоянном ожидании чудовищного взрыва. Будь Валерий умнее, обладай он незаурядной интуицией, он, наверное, попытался бы хотя изредка, хотя бы подспудно приоткрыть один из душевных клапанов Вероники, и тогда риск взрыва уменьшился бы. Однако, его эгоизм, его упоение славой замечательного летчика, которую ему расточали почти на каждом шагу, затмевали в нем все, что касалось обыкновенных житейских вопросов. Если он порой и страдал, вспоминая «вальпургиеву ночь», как он называл про себя ту встречу Вероники и Мезенцева, то это его страдание носило лишь характер дикой ревности: «Она, дрянь, такая, все же спала с ним, в этом можно не сомневаться!» И при этом не испытывал своей вины, тоже, конечно, лицемеря перед самим собой, внушая своей не очень-то обеспокоенной совести: «Никто ее насильно туда не посылал, она сама туда побежала…»
3
— Так почему же ты не ответил на мой вопрос? — продолжая в упор смотреть на Валерия, переспросила Вероника. — По-твоему, у нас нет людей, которые прячутся за чужие спины?
Это был уже вызов — Валерий понял это сразу. И вначале его одолел страх: вдруг Вероника сейчас обо всем расскажет Полинке? Вдруг она решила больше ничего не утаивать, полагая, что этим самым она как бы скинет с себя груз, очистится от грязи, которой сама себя замарала. Она ведь сентиментальная дура, ей наплевать, что будет после этого с ним, с Валерием. Узнай обо всем капитан Шульга — и завтра же прощай учебная эскадрилья, слава прекрасного летчика-инструктора, прощай надежда на повышение. А впереди фронт, смертельные опасности.
— Разве я это утверждаю? Он положил рядом с собой газеты и просительно посмотрел на Веронику. — Развел говорю, что миллионы солдат и офицеров там, на фронте, все как один — герои? Я просто говорю, что летчиков на войне награждают чаще, чем других, хотя не каждый из них в любом воздушном бою обязательно проявляет подлинный героизм.
— Значит, стоит «покрутиться в боевой карусели, и-з-б-е-г-а-я драки» — и на груди у тебя уже орден?
«Боже, что это на нее наехало! — раздраженно подумал Валерий.
— С ума спятила? Да еще при Полинке, которая на своего Федора молиться готова. И черт меня дернул вступить в этот идиотский разговор!»
— Я еще раз повторяю, — сказал он, — что в данном случае говорю не лично о Федоре, а о летчиках вообще.
Вероника скривила губы и едкой усмешке:
— Ты своими глазами видел, как дерутся «летчики вообще»? Ты видел, как горят их машины, как они вдвоем-втроем бросаются в бой на десяток фашистских самолетов?
Полинка продолжала сидеть, прижимая конверт с письмом Федора к груди. Ничего подобного она от Валерия не ожидала. По простоте душевной она думала, что вот прочитает она Федору и Веронике письмо, и они обязательно разделят ее радость, и это станет для нее, Полинки, незабываемым днем, и она унесет отсюда такое же светлое чувство, чем была наполнена ее душа. Больше всего ее удивило, что именно Вероника, а не Валерий, поняла ее чувства, и что Вероника, не Валерий, говорит о той тяжести, которую испытывали на фронте Федор и его друзья.
— Я пойду, Вероника — вставая из-за стола, сказала Полинка. Голос у нее был тихий, в глазах застыло печальное недоумение и, кажется, тоска, скрытая за невеселой улыбкой, но Вероника ее безошибочно уловила. — Я пойду, вы уж меня извините, что я так внезапно… Я думала…
Валерий вдруг сорвался с места, фальшиво-оживленно воскликнул:
— Нет, нет, мы так тебя не отпустим! У меня найдется бутылочка хорошего винца, и мы отметим удачу Федора. Без этого нельзя.
Полинка сказала:
— Спасибо. Большое спасибо. До свидания.
И ушла.
Она уже подходила к дому, когда вдруг услыхала:
— Полинка!
Она обернулась и увидела Денисио.
— А я к тебе, Полинка, — сказал он. — Захотелось узнать, как дела у Федора. Получаешь от него письма?
— Получаю, — ответила Полинка. После того, что она услышала от Валерия, ей уже больше не хотелось ни с кем делиться своей радостью. «Буду носить все в себе, — думала она. Только в себе. Потому что никому ее, мою радость, до конца не понять». — Получаю, — повторила она суховато. — Федя все время мне пишет. Обо всем, что там у них делается.
Кажется, Денисио почувствовал эту самую суховатость в ее ответе. Полинка увидела, как он в нерешительности остановился в двух шагах от нее не его лица сбежала добрая улыбка, та самая улыбка, о которой Федор не раз говорил: «Когда Денисио улыбается, в нашем грешном мире становится светлее и уютнее». Федор любил Денисио, да и сам Денисио относился к Федору так, как будто они были братьями.