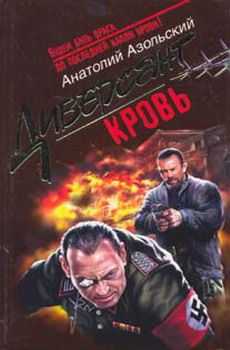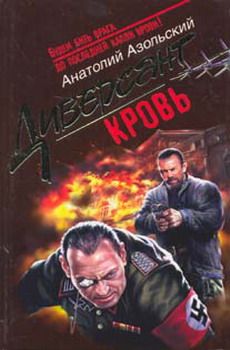Молодой человек немигающе уставился на Пульманна. В голосе — ни намека на бархатистость.
— Рапорт старшины роты, — угрожающе напомнил он, — в единственном экземпляре, не вам адресован и является документом строгой секретности. О разглашении его и речи быть не могло!
— В нашем штабе никаких секретов никогда ни от кого нет! — брякнул Пульманн, и, поскольку Ламла от бешенства онемел, командиру батальона ничего не оставалось, как авторитетно предположить:
— Капитан Клемм — из штаба комиссариата Остлянд, а там всегда все знают раньше нас!
Интерес к капитану Клемму немедленно увял, а Скарута с горечью подумал о судьбах агентов — и тех и других, — которые проваливаются на сущих пустяках. Нельзя, дорогой товарищ, забываться, утрата бдительности чревата тяжелейшими последствиями. Понимаю, все понимаю: только что появились там, где уже бывали, терзают сомнения, хочется знать, наследил ли в предыдущий приезд, а тут вовремя подворачивается дурачок Пульманн, выкладывает новости, весьма для шпиона благоприятные, и в радостном возбуждении от успехов свободнее становится речь, смелее жесты, раскованнее поступки, — вот так и вылетела невзначай дата: 20 августа. Все понимаю, все: приказ, как это ни обидно, выполнять надо. Глупый приказ, я с вами согласен, товарищ Клемм. Обжили Германию (в Аугсбурге, обмолвился Бахольц, повстречался ему впервые Клемм, еще до войны), имеете планы на будущее, отступать намерены вместе с нами, немцами, и никакого резона заниматься убийством Вислени у вас нет, да и опасно, смертельно опасно. Но придется. Сегодня 11 сентября, два дня до покушения, и у него, Скаруты, нет уже времени на Фурчаны. Если что-либо заложат в тайник, пусть сам портной (пропуск ему сделан) доставляет в город послание из леса. Начальству же доложено: явка русскими проверена, благонадежность ее подозрений у них не вызывает, в ближайшее время «Грыцуняк» должен заложить в тайник шифровку для агента, личность которого пока не установлена.
Наконец прибыл папаша Майснер, как павлин разукрашенный, и если золотой партийный значок еще можно объяснить принадлежностью к верхам государства, то штурмовой, коим награждали окопников только после трех русских атак, был Майснеру по знакомству прилеплен к кителю («по блату!») — что поделаешь, крупный руководитель, которому многое позволено. В частности, руководитель решил с отцовским почтением преклонить колени перед мужеством павшего сына-героя и возложить на могилу венок от имени парторганизации. От такого намерения его отговорили, привезенные же им подарки тружеников тыла решено было торжественно вручить солдатам батальона этим же вечером.
А Фридрих Вислени трудился в это время много севернее: объезжал Балтийское побережье, где наплодилась за войну уйма госпиталей. Раненых и увечных не введешь строем в зал и не обратишься к ним проникновенно: «Товарищи!..» Зная, как грызутся между собою немцы в черном и такие же немцы в серо-зеленом, он навещал покалеченных в нейтральной форме военного чиновника высокого ранга, но и та скрывалась под белым халатом. От имени Вождя и по заранее согласованному списку он жаловал солдат и офицеров Железными крестами 2-й и — реже — 1-й степени. Впрочем, однажды он положил на тумбочку у кровати умиравшего танкиста Рыцарский крест. Ассистентам его уже не приходилось гуськом шествовать по проходу в партере, сумка с письмами сталинградцев и коробка с крестами и медалями хранились в багажнике «опель-адмирала». Фридрих Вислени, в юности не пропускавший ни одной премьеры, с театральным шиком ввел в действие солдатский ранец времен первой мировой войны, обтянутый потертой жеребячьей шкурой; ранцу этому по виду — более ста лет, в него и запускал руку Вислени, доставая награды.
Он увеличил охрану, сделав ее малозаметной и предполагая, что всю ее — на радостях или в горестях — расстреляют после его гибели, приблизил к себе ассистентов и наговаривал им свои потаенные мысли в надежде, что оба офицера либо погибнут вместе с ним и с этими мыслями, либо когда-нибудь выдадут за свои. Но даже им не поведал он правду о той фотографии, которая якобы много лет хранилась в его архиве, а ныне им, Фридрихом Вислени, извлечена оттуда и в ущерб Вождю гуляет по Берлину. А правда в том, что фотография как лежала, так и продолжает лежать в семейном сейфе, но копия с нее снята бесчестными людишками, размножена и переходит из рук в руки. Память о юности Адольфа осквернена полицией, в ней не хирурги, там — мясники, которым невдомек, что человек — венец мироздания и убивать его надо по-человечески, а не как на живодерне.
Однажды на Куршской косе, глаз не сводя с белобарашкового Балтийского моря, он, отъехав от санатория, воскликнул: «Представляю, какой ужас во фронтовых и прифронтовых госпиталях!» И развил теорию, подсказанную ему одним преподавателем на полугодичных офицерских курсах в 1915 году. Любое войско, уверял ассистентов Вислени, само по себе, без войны, как организованное скопище здоровых мужчин, убывает в больших пропорциях, чем мирное население, причиной чему служит сам воинский порядок и боевая подготовка; все эти марши и походы, стрельбы и караулы неизбежно влекут выстрелы из незаряженной винтовки, взрывы мин, вроде бы обезвреженных, автокатастрофы и тому подобное. Сам воинский коллектив — источник смертельной заразы. Нормальный и здоровый быт спасает человечество от болезней, а быт — всего лишь оседлая жизнь людей, давно утерявших навыки воинов-кочевников. Та земля, по которой ходят люди, вовсе не рада тому, что ее топчут солдатские сапоги, шины автомобилей и гусеницы танков, почва терпит, терпит, а затем начинает мстить, выдавливать из себя заразные бациллы и позволяет вшам плодиться в угрожающей прогрессии.
Рука уже не раз тянулась к телефону, чтоб вызвать нотариуса и продиктовать завещание. И отдергивалась. Завещать нечего и некому. Жена умерла, дочь зарезана каким-то фанатиком в незлобивой Индии (сам Вождь рыдающе сообщил ему эту весть, вызвав в Берлин), сын «пал смертью героя» в африканских песках на глазах у Роммеля, племянница не алчна и довольствуется малым. Да и бедным оказался он накануне смерти. Недвижимость, завещанная родителями, развеялась, потому что богатство, как и власть, требует каждодневного принятия решений, богатство надо холить и лелеять железными кулаками. Конечно, ему кое-что принадлежит. Но кончится война — и окажутся не имеющими правовой силы все акты Великой Германии о передаче ему, Вислени, еврейского концерна и акций многих фирм. Как родился — так и умрешь. Вне зависимости от того, что у тебя в кармане и кто тебя похлопывает по плечу.
По чьей прихоти оборвется его жизнь — не гадал. Исчезают постепенно те, кто был рядом с Вождем, уходят на задворки империи люди, знакомые с бытом вольного художника, солдата и канцлера. Вождь — временщик со скрытой тягой к самоубийству, и, спасаясь от грядущего возмездия, друг Адольф устраняет любимчиков, беря пример с большевистской банды. Где Видеман, командир батальона 17-го пехотного полка, которого боготворил ефрейтор Адольф Гитлер? Так и не стал Видеман генералом: мелкий дипломат, консул в Китае. Где шут Ганфштенгль, давший Вождю приют после разгрома путча и опекавший его долгие годы, пока не узнал, что Герингу дано указание: сбросить его с самолета, чтоб попусту не болтал? Где… Да много их, теперь настал и его черед. Тем более что оба Вождя — сообщники, равновеликие любовь и ненависть влекут их друг к другу, а у русского свои причины ненавидеть Вислени, который был с Риббентропом в Москве, который — сейчас это вспоминается сладостно — разрешил себе вольность, с явным отвращением отдернул руку, только что пожатую… Да и сам он, Вислени, преотлично понимает, что и с какой целью говорит, когда наставляет работодателей: «Медицинская помощь восточным рабочим?.. Обязательно. Но не наравне с немцами». Младенцу ясно, что большевики станут делать с теми, кто подбирал крошки с имперского стола, кто хоть краешком глаза увидел богатства Германии.
С усмешкой замечал за собой: на чудачества потянуло, на слова, что будто невзначай вылетают, — как в добрые мюнхенские времена. Ни с того ни с сего задавал ассистентам каверзные вопросы, поинтересовался однажды: последним самолетом в окруженный Сталинград — презервативы доставили? Ответа не услышал, но насладился угрюмым молчанием ассистентов. Не хотел объяснять, почему едет в городишко, вроде бы ничем не примечательный… Ничто его не связывало с ним, ни разу там не бывал, хотя служба могла занести его туда в далеком 1918 году, когда он, ротмистр Вислени, вместе с конно-егерским полком прорывал жидкий, ослабленный революцией русский фронт. А раз могла занести, то пусть фантазируют в Берлине, придумывая славянку в набитом клопами номере гостиницы «Бристоль», куда он прибудет после утомительной процедуры общения с «народом». Из Кенигсберга — самолетом до Ганцевичей, ближайший фронтовой аэродром русских — в шестистах километрах, нападение в воздухе исключается, тем не менее самолет, настоял он, будут сопровождать два «мессершмидта». Посадка — в 16.00. Десять минут на приветствия и представления, в город — для высшего обеспечения охраны — еще раньше прибудет Готтберг, с собой привезет человек двадцать, командование временно перейдет к нему, да и комендант гарнизона, побрюзжав, обрадуется сему. Кстати, присутствие так называемой общественности не предусмотрено, даже с хлеб-солью никого из местных националистов он к себе не подпустит. В 17.00 — совещание в штабе. В 18.00 — ужин там же, пища сугубо солдатская. В 18.55 — выезд из штаба и через 5-10 минут (маршрут будет внезапно изменен) прибытие к месту встречи с личным составом батальона и тыловыми службами, — всего один сеанс в бывшем клубе железнодорожников, а не два, как в Минске, да и, понятно, где наскребешь «публику». Речь и награждение крестами — полтора часа или чуть более, но строго по рижско-минскому регламенту. В 21.00 -конфиденциальное совещание с хозяйственниками. В 22.30 — его препроводят в этот восставший из небытия «Бристоль». Там, возможно, он и будет убит.