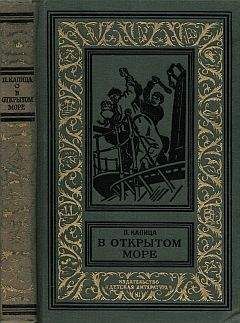– Он потребует документ.
– Какие сейчас могут быть документы? – возразил Дульник. – Отчаянный капитан поглядит нам в глаза, увидит отвагу и зачислит. А там не наше дело. Он сам снесется с полком, с командованием. Идем, идем, Лагунов. А эти молодцы нам почти не соперники. Мало кто из них имеет парашютные прыжки.
Итак, мы решили соврать. Когда я узнал, что набирают только двадцать человек, я больше уже не колебался.
Майор вызывал по одному. Наконец очередь дошла и до нас. Наше желание протиснуться вдвоем было мгновенно и молчаливо пресечено рослым моряком-автоматчиком, стоявшим на часах.
Первым вошел Дульник. Я через дверь слышал его громкое, четкое приветствие, хлопок ладошки по шву и удары каблуков по полу. Потом он прошел в глубину комнаты, и все смолкло.
Свидание продолжалось ровно десять минут. Дульник вышел сияющий и торжествующий. Я понял: ему удалось уговорить отчаянного капитана.
– Порядок, – шепнул он мне, – давай, давай входи.
Дульник потер ладошки, подбил с двух сторон бескозырку и направился во двор с видом победителя.
Я вошел в кабинет Балабана, щелкнул каблуками, отрапортовал по форме.
Балабан стоял у окна, чуть пригнувшись, и, казалось, глядел во двор, где группа моряков от нечего делать играла в «жука». На самом деле он искоса, но внимательно и как-то насмешливо разглядывал меня.
В комнате, кроме него, находились два флотских командира, но я сразу решил, что майор, стоявший у окна, и есть Балабан. Именно таким представлял я себе отчаянного капитана. Передо мной стоял человек ростом выше ста девяноста сантиметров и весом не менее ста двадцати килограммов. На нем ладно сидел флотский костюм, сшитый у хорошего портного, – вряд ли на его фигуру нашелся бы готовый мундир. На груди его я увидел ордена Ленина и Красного Знамени, потускневшие от времени и моря. Из-под полы кителя свисал пистолет в морской кобуре из плотной черной кожи.
– Документ, Лагунов, – раздался неожиданно тонкий голос Балабана.
Я шагнул вперед, протянул майору бумагу.
Балабан быстро взял ее, развернул. В его огромных руках, с такими толстыми пальцами, что казалось, их невозможно сжать в кулак, моя бумажка показалась лепестком мимозы. Балабан помахал документом «з воздухе, вернул мне, не читая.
– Сколько имеете прыжков, Лагунов?
– Одиннадцать, товарищ майор, – без запинки ответил я.
– А может быть, какой-нибудь пропустили, Лагунов? Может быть, двенадцать или тринадцать?
– Нет, одиннадцать, товарищ майор.
Балабан отошел от окна, прошелся по комнате. Половицы скрипели под его энергичными шагами. Ов что-то сказал капитан-лейтенанту, сидевшему у стола. Тот наклонился к столу, записал. Когда он писал, на его новеньком нарукавном галуне мелькнули зайчики.
Теперь Балабан стоял передо мной. Я видел его насмешливые глаза, крупное, будто вырубленное из кряжевого дуба, лицо. Такой же крупный нос, выдающийся подбородок, большие мясистые губы, вероятно, безобразные в другом сочетании, здесь производили впечатление гармонии. Таким, таким должен быть отчаянный капитан, умевший захватывать фелюги, рубить под корень мачты, орать в штормовые ураганы и крепко, как медный памятник, стоять на палубе своего судна.
– Похвально, Лагунов, что ты, как патриот, решил помочь осажденной Одессе, – сказал Балабан и сделал паузу.
Душа моя возликовала. Победа одержана. Я поступаю под начало к отчаянному капитану. Затаив дыхание, я стоял перед ним, не спуская с него глаз, в которых, вероятно, сейчас горело счастье.
Балабан выудил из кармана малютку-трубочку, повертел ее в своих лапищах. Опять выдержал паузу.
– Давно ты дружишь с этим жуликом? – неожиданно спросил Балабан.
– Каким жуликом, товарищ майор?… – Я запнулся.
– А вот с этим жуликом, который хвастался передо мной на этом самом месте?
– Дульником?
– Не Дульником, а жуликом. – Балабан приподнял брови, улыбнулся всем ртом. – Сколько ты сделал прыжков? А?
Слова не сходили с моего языка. Я молчал, подавленный его проницательностью.
– Как же вы решили обмануть старшего командира, Лагунов?
– Я сделал одиннадцать парашютных прыжков, товарищ майор, – пролепетал я, чувствуя, что проваливаюсь в бездну.
– С печки на лавку? – спросил Балабан, подавив смех, играющий на его лице.
Я молчал.
– У тебя есть совесть, Лагунов, – сказал Балабан, – а Дульник, твой приятель, кажется, потерял ее по дороге к Херсонесу. Жулик он, жулик!
– Наш обман был продиктован самыми хорошими намерениями. – В моем голосе что-то дрогнуло.
Ноги уже окончательно не подчинялись мне, в глазах помутилось. Майор представлялся мне какой-то огромной, расплывчатой и колеблющейся массой. Я так сжал кулаки, что ногти вонзились в ладони, и пришел в себя.
Балабан понял мое душевное состояние.
– Ничего, Лагунов, – сказал он дружелюбно, – будем знакомы. – Он протянул мне свою лапищу с растопыренными пальцами.
– Иди, Лагунов, – Балабан изучал меня от пяток до макушки, – пока наш альянс не состоялся. Пойми, у нас нет времени сейчас подготавливать вас. Нам нужен готовый товар, понял? А в дальнейшем, милости прошу, не забывай майора Балабана.
Я вышел в каком-то тумане. Дульник поджидал меня у выхода.
– Ты рассказал ему про «Капитанскую дочку»? – любопытствовал Дульник. – Про «Мусульманку»?
Я не отвечал ему. Мы шли по двору, миновали часового, поднялись в гору. Свежий бриз овеял мое лицо. Ворота и стены древнего Херсонеса стояли, завитые ослепляющим солнцем. Море искрилось и переливалось, как бы засыпанное до дна драгоценными каменьями. А там, далеко, сражалась Одесса. Сражалась и будет сражаться без меня.
Дульник правильно расценил мое молчание.
– Я вижу, ты не принят, но я?
– Балабан велел мне передать тебе…
– Ну, ну… – перебил Дульник.
– Что ты жулик.
– Все ясно. – Дульник сокрушенно вздохнул, присел на камень. – Ты не сумел до конца держать марку.
– Балабан видит на три сажени в землю. А ты решил его провести. Он всю жизнь имел дело с жуликами, с контрабандистами, с пиратами.
Дульник не мог скрыть своего разочарования.
Его одинаково печалили и несбывшиеся мечты и провал придуманной им хитрости. Мы вернулись в Сарабуз. На аэродроме мы решили ни с кем не делиться нашей неудачей. Эта первая тайна скрепила нашу дружбу.
В Сарабузе меня ждало письмо Анюты.
Благотворную радость и душевное спокойствие приносили мне письма сестры, дышавшие милым и неуловимым, как запахи белой акации, девичьим очарованием.
О! Конечно, ей я опишу мою встречу с Балабаном. Она была слишком! мала тогда, на Черном море, чтобы помнить об отчаянном капитане. Но сколько раз ей, Виктору Неходе и еще маленькому существу с белокурыми косичками я рассказывал фантастические истории, связанные моим воображением с именем отчаянного капитана.
Я не буду описывать Анюте своего позора. Я придумаю, что написать, призвав на помощь древнюю землю херсонесистоз – мореплавателей и виноградарей, алмазные волны Черного моря, омывающие Прекрасную гавань, как назывался Севастополь; воспользуюсь повестями Дульника oб Одессе и все свяжу с образом Балабана. Пусть почитает Лукиана, его «Правдивые истории» и найдет в античном коне-коршуне, летающем на грифе, прообраз сегодняшнего Балабана. Кони-коршуны обязаны были облететь страну и, завидев чужеземцев, отводить их к царю. «Каким образом проложили вы дорогу, чужеземец, и явились сюда?»
«…Осиротел наш дом, Сережа, – писала Анюта. – Нет тебя, нет Илюши, нет Коли. Мама кренится, но поддалась горю. Она тщательно следит, чтобы никто не трогал ваши постели, которые застланы так же, как в день вашего отъезда. Никто не прикасается к вашим вещам. Мама разрешила мне пользоваться твоими книгами, так как я уже подросла. Каждое утро мама рассказывает нам свои сны. Они у нее очень логичны. Мне же всегда снится какой-то сумбур. Вчера, например, мне снилось, что у нас дом из множества комнат, везде стеклянные двери, нет замков, и тысячи воров врываются в нашу квартиру. Я вижу их, пытаюсь кричать, а голоса нет. Горло схватило спазмами. А воры комкают ваши постели, заворачиваются в ваши одеяла и проходят сквозь стеклянные двери. Я не могу вырвать из горла ни одного крика. И вот гляжу, надо мной наклонилась мама, теребит меня: „Аня, Аня, ты кричишь во сиг. Страшно!“ Я не стала рассказывать маме, что я видела во сне. Она придает большое значение снам. И трудно ее разубедить в подобных предрассудках. Не надо ее расстраивать. Советую почаще писать о себе. Ты не можешь представить, сколько радости доставляют нам твои письма. Илья важничает, скуп на подробности. Неужели он считает, что, поделившись своими мыслями о нас, он раскроет военную тайну? А может быть, ему просто некогда и я напрасно на него нападаю?
Отец все время в поле. Урожай небывалый. Приходится всем нам заниматься уборкой. Пшеница курганами по всем токам. Над полями иногда пролетают немецкие самолеты. По-моему, разведчики. Идут на большой высоте, не бомбят и не стреляют. Видна ли им наша пшеница?