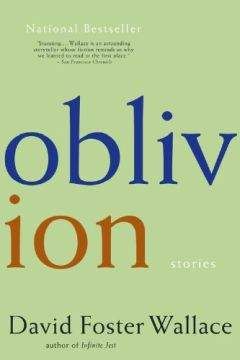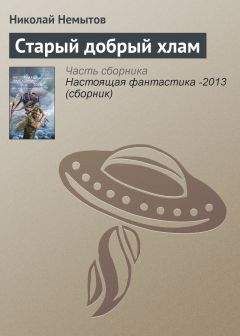Это поет женщина в черном платье. У скрипача длинные седые волосы, которые все время падают ему на глаза.
Люди бросают с террас завернутые в бумажки монеты. Они глухо падают к ногам женщины. Мальчишки, стоящие рядом, подбирают их, аккуратно складывают в открытый скрипичный футляр.
И только профессор, когда женщина кончает петь, спускается во двор и, поклонившись ей, кладет в футляр три рубля.
— При его зарплате мог бы и пять положить, — говорит мадам Флигель. — А вообще эти музыканты — одно безобразие, их надо гнать в шею…
Вокруг этого города были горы. Конечно, не снежные вершины, какими их рисуют на коробке от папирос «Казбек». Поменьше. Но все-таки горы. Город лежал у их подножия словно в большой коричневой чаше.
Если забраться на самую высокую из окрестных гор, туда, где греются под солнцем развалины древней Персидской крепости, то можно увидеть весь город разом: все его проспекты, улицы, скверы, большие и малые дома, церкви, бирюзовый минарет, иглой уходящий в такое же бирюзовое небо, кривые переулки старой части города, бурое русло реки, разрезанное на части мостами, и гордый средневековый замок на отвесной скале.
Часами можно смотреть, как ползут по тонким ленточкам улиц разноцветные трамваи и еле различимые отсюда автомашины, как снуют они взад и вперед по мостам, будто ищут кого-то в этом перепутанном клубке улиц, переулков и длинных, похожих на трубы проходных дворов.
Если прислушаться, то вверх вместе с полупрозрачной дымкой, висящей над городом, поднимается глухой монотонный гул. Это голос города, сотканный из тысяч человеческих голосов. Кто-то там, внизу, сейчас смеется или поет, кто-то ругается и сердито топает ногами, кто-то плачет, а кто-то просто говорит тихим, спокойным голосом. И все это, смешанное со стуком каблуков, лаем собак, шуршанием автомобильных шин, трамвайными звонками, рокотом реки, шелестом листьев, сливается в единый голос города. О чем он рассказывал, Ива не знал. Наверное, о себе. О многих веках своей долгой жизни, о людях, которые рождались и умирали в его старых, сложенных из кирпича домиках с деревянными надстройками, с балконами, нависающими над улицами, и в его дворцах с зеркальными стенами, с колоннами из розоватого мрамора.
Над старой Персидской крепостью медленно проплывают лохматые полотенца облаков. Бахрома их бесшумно скользит по голубовато-зеленому кафелю неба. Ива смотрит вверх, и ему кажется, что облака вот-вот заденут его лицо, что они даже пахнут так же, как теплые, прямо из-под утюга, мамины полотенца.
Город лежит внизу, удобно умостившись в коричневой чаше, словно в громадной, испачканной землей ладони. Как много в нем живет людей! Их просто не видно отсюда. А если взять подзорную трубу или большой морской бинокль, то сразу увидишь спешащих прохожих, мальчишек, висящих на трамвайной «колбасе», крикливых разносчиков, усатых милиционеров, важно стоящих в самом центре уличных перекрестков. А там, где люди копошатся, сбившись в толпу, — там базары. Колхозный, Воинский, Молоканка, Майдан. Там кричат и ругаются, пьют вино и чай, клянутся, божатся, надувают друг друга, торгуются, смеются, жарят шашлыки, зазывают покупателей, едят хинкали. Здесь в ходу все языки, а вернее, один объединенный язык. Два-три слова русских, одно армянское или грузинское, еще тюркское, но всем все понятно.
Так говорят в городе многие. И Ромка с четвертого этажа, и тихий Минасик, у которого папа с мамой зубные врачи, и Алик, сын летчика Пинчука.
Летчик зовет сына Шурец. А все остальные Аликом. Ива вначале не мог понять почему. И только потом узнал: так его когда-то звала мать. Шура, Шурец…
— Э, какая это была красивая женщина! — Старик Никагосов закрывал глаза, качал головой. — Я ее еще девочкой знал, на этих вот руках держал. Тогда наш летчик, как Алик был, только хулиган немножко. С крыши на стенку один раз лазил, глицинию рвал. Я тридцать лет в этом дворе живу, про всех что хочешь знаю…
А вот Ива в этом дворе жил всего лишь год. И знал только то, что было на виду и составляло жизнь людей, объединенных очень сложным, во многом еще недоступным ему понятием: «соседи».
«Не купи дом, купи соседа» — так издавна было принято говорить в этом городе.
И все ж не каждый сосед становился другом. Что-то порой разъединяло соседей, Ива видел это. Причин он не знал, а спрашивать о них стеснялся.
Как много загадок прячется в этом старом городе, лежащем у подножия коричневых гор! Кого только не знал он, кого не видел…
В этом городе рождались герои, поэты, путешественники, купцы, искусные чеканщики, резчики по камню, музыканты, дерзкие разбойники и просто бездельники, способные слоняться весь день по улицам и глазеть на что придется. Вроде того же Ромки.
— Я вчера на Центральном мосту остановился и давай смотреть в воду. — Ромка сидел между зубцами крепостной стены, как в кресле, держал в руках извивающегося желтопуза[2]. — Смотрю, смотрю, как будто там, в воде, что-то очень интересное лежит. Пятнадцать человек около меня собралось, даже больше, тоже смотрят… Ха-ха! Я ушел потом потихоньку, а они все стояли… — Он покрутил в руках желтопуза. Тот выгибался кочергой, скрипел кожей совсем как новенький бумажник. — Скрипит, — сказал Ромка и вздохнул. — В прошлом году я бо-ольшого желтопуза в автобус кинул. В открытый, знаешь, как корзина, ну «союзтрансовский», с туристами. Вах! Какой крик стоял! Я полчаса бежал, а они все кричали.
Ромка есть Ромка. Даже профессор, который никогда ни на кого не сердится, и тот однажды погнался за ним с выбивалкой для ковров. Не догнал, правда, Ромка здорово умеет бегать…
Минасик сидел рядом с ним на крепостном зубце и жалостливо поглядывал на желтопуза.
— Выпусти его, на что он тебе? Смотри, совсем уже замучился.
— А я не замучился, да? — возмутился Ромка. — Лучше желтопузом быть, чем такая жизнь! В школе учителя и Джулька покоя не дают, дома отец и опять Джулька. Мать тоже добавляет, бабка тоже. А желтопуз что? — Он положил пленника за пазуху. — Живет как Минасик, никого не кусает, его тоже никто не кусает.
— Пора домой, — сказал Ива.
— Пора, — Ромка спрыгнул с крепостной стены на землю, отряхнул штаны. — Отлупит меня сегодня отец, обязательно отлупит. За то, что с уроков удрал. Джулька ему сказала, забурда[3] такая! Как хорошо, что у тебя сестры нет. Скорей бы выросла она, я б ее замуж за Никса отдал, хорошая парочка получилась бы, да? — Он вытащил желтопуза из-за пазухи, протянул его Минасику. — На, возьми своего родственника. Пошли!
Ива последний раз глянул вниз. Вечерние тени синими языками лежали у нагретых за день стен. Дома неохотно взбирались по склону горы. И чем выше и круче она становилась, тем меньше домов осмеливались лезть дальше. Только самые маленькие и, видать, бесшабашные домишки рискнули добраться почти до крепости и затаиться в тени ее все еще величественных бастионов.
Много веков стоял этот город на перекрестке оживленных торговых дорог. Все смешалось в нем: Восток с Западом, бирюзовый минарет с золотыми луковицами русских церквей, с костистыми шпилями костела и кирки, с остроконечными шлемами грузинских и армянских храмов.
Разноязычный и веселый, он бежал навстречу мальчишкам, а может, это они бежали с горы навстречу ему…
Последний самолет летчика Пинчука
Ромкин отец был директором ресторана «Олимпик». Домой он приезжал поздно вечером, торопливо поднимался по лестнице с большой скрипучей корзиной в руке. Что было в корзине, никто не знал, но все догадывались.
— А что вы хотите, — говорил старик Туманов, — чтоб он за одну зарплату работал? Нет, до чего же вредные люди живут в нашем доме! Разве раньше я допустил бы таких жильцов сюда? Да ни за что! Куда все идет, куда катится?!
На террасу, перебирая руками колеса, выехал летчик, и старик Туманов, так и не выяснив, куда все идет и куда катится, поспешно ушел в свою комнату.
Каждое воскресенье, как только спадала жара, во дворе начинались волейбольные сражения. Играли взрослые. Азартно и долго, до самой темноты. Судил матчи летчик. Он подкатывал кресло к самым перилам террасы и, сильным броском послав мяч на площадку, объявлял:
— Розыгрыш подачи!..
Двор как маленький стадион. Слева четыре этажа — четыре террасы во всю длину дома, словно трибуны, с которых так удобно смотреть игру. Справа глухая стена соседнего дома.
Если мяч стукался о нее, то летчик тут же свистел:
— Аут! Потеря подачи!..
Между подворотней, ведущей с улицы во двор, и стеной соседнего дома примостился флигель. Его большой балкон тоже как трибуна. Только на нем никогда не бывало зрителей — мадам Флигель и ее дочь не любили волейбол.
Двор упирался в невысокую кирпичную стену. Невысокую, если смотреть со стороны двора. А так она уходила вниз метров на пять. Там, внизу, был другой двор, густо заросший туей и кустами одичалой сирени. Витые стволы глицинии, похожие на две мускулистые руки, ползли по стене. Цепляясь за вымытые дождями швы кладки, они поднимались высоко вверх, до самой крыши соседнего дома, и там, раскинув десятки щупальцев, повисали зеленой пышной шубой. В начале лета грозди лиловых цветов дразнили мальчишек: попробуйте доберитесь до нас!..