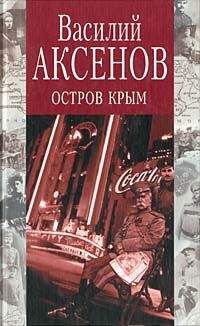Помаленьку я освоил дело, приладился к своему командиру и уже уверенно чувствовал себя и на маршруте, и на полигоне. На похвалы Грехов был не больно щедр. Не знаю, что надо было сделать, чтобы он тебя похвалил. Молчит после полета — значит, все в порядке. Вернулись как-то с бомбометания. Штурман эскадрильи спрашивает Грехова: «Как твой молодой?» Ну, думаю, скажет «нормально» — и весь разговор. А Грехов вдруг взорвался: «Он мне машину разбалтывает на боевом курсе! Доверни влево, еще чуток, два вправо… Так и ворочаемся». — «Боковая наводка, — говорит штурман — дело непростое: трудно сразу машину поставить на курс». Грехов, конечно, это и без него знал. Отвернулся, засопел. Думаю, успокоился. Нет, опять за свое. «Трудно! — кричит. — Не просто! Так и будем друг дружке пятки чесать!» Штурман ухмыльнулся и ничего не сказал.
Обращался с машиной Грехов бесцеремонно, развороты делал резкие и крены закладывал такие, что все тяги стонали. В первом полете я даже растерялся. В училище мы летали на старых машинах и летчикам строго-настрого запрещалось подниматься высоко. Конечно, высота нам была ни к чему, но когда пилишь весной над распаханными полями, болтанка может вытряхнуть из тебя душу. Нашему брату-курсанту еще ничего: отработал упражнение — и на землю. А летчик брал очередного штурмана и снова шел в воздух. Правда, некоторые из них приспособились: уходили в зону, забирались повыше (барографов-самописцев на машинах не было) и там ползали потихоньку в холодке.
А тут цирк, честное слово! Думал, Грехов и себе шею свернет, и нас порешит. Не понравилось мне тогда его ухарство. Только уж после начал я соображать, что не ухарство это. Все, хорошо все понял, когда пришлось выбираться из переделок. Бывало, сыплемся к земле, а немец висит над нами, ошалело ворочает головой: потерял нас!
С войной жизнь круто повернула. Уже на второй день мы участвовали в налете на Мемель, где шла разгрузка боевой техники с транспортов.
Утро было ясное, солнечное. Над аэродромом заливались жаворонки, пока мы их не распугали своими моторами. Шли в сомкнутом строю — любо поглядеть. Правее и чуть впереди нас летел капитан Рытов. В турельном гнезде маячила голова сержанта Рассохина, моего земляка. Он узнал меня и помахал рукой.
Чужой город открылся неожиданно — шиферные крыши, блеск стекол, серый порт, толкотня на причалах. Помню, подумал: как же этакое бомбить? Знал, конечно, что они там не с апельсинами возятся на причалах, не с игрушками. Но все равно таращил глаза на город, как мальчишка. А с земли уже тянулись к нам дымные шнуры трассирующих пуль, и Грехов орал: «Паша, дьявол! Спишь?» И вдруг «ноль пятый» развалился у нас на глазах. Это была война.
Когда мы отвалили, я обливался потом и продолжал держаться за прицел. Грехов звал меня, но язык мой не поворачивался.
Немцы ворвались в Прибалтику и быстро шли на Псков и Ленинград. Разведка доносила об огромном скоплении танковых и механизированных соединений под Двинском. Мы двое суток бомбили переправу через Западную Двину, а немец все пер и пер. Помню бесконечные плотные колонны по дороге и на обочинах, облака пыли, в которых терялись хвосты коней.
Летали мы на Ил-4. Летчики иногда называли их «утюгами». На них и впрямь шибко не поворочаешься, когда надо выйти из зоны огня, да и скоростенка мала. Эти самолеты предназначались для действия по крупным объектам с больших высот. Бомбить с верхотуры танки — кислое дело, а пошел на бреющем — мишень для пулеметов. Но что оставалось?
Утром тридцатого июня ушли на Двинск семь самолетов. Вернулись четыре. Пришла наша очередь.
«Выполнять задачу самостоятельно. Прикрытия не будет».
То есть как? Днем? Без сопровождения? Это была какая-то ошибка, промашка, какой-то просчет. Так нам казалось. Мы еще не знали, что многие наши истребители и бомбардировщики сгорели на аэродромах, даже не успев взлететь. Так и пришлось решать фронтовой авиации задачи: наносить удары по танковым и механизированным колоннам, бомбить железнодорожные узлы, мосты и переправы.
Мы шли, прижимаясь к нижней кромке облаков, и я тихо радовался: сам был в тени, а землю видел. Грехов весь полет молчал. Видно, не надеялся на погодку. И точно! Перед Двинском облака будто сдуло. В чистом небе нас поджидали истребители. Жуткая картина — все чисто, ярко, голо… И истребители.
Мы замыкали строй, и я видел, как все началось. Первая группа продолжала идти к цели не сворачивая. Тройка «мессершмиттов» перевернулась через крыло и бросилась в атаку. С первого захода они выбили из строя несколько машин. Одна сразу взорвалась в воздухе, два горящих самолета повернули на свою территорию. Из машины капитана Корзуна выбросились трое. Три белых купола качались в синеве, а чадящий самолет шел за линию фронта, унося кого-то с собой. Долго, как-то неправдоподобно долго падал он на лес… Никто из экипажа Корзуна в полк не вернулся. Наверное, их всех расстреляли в воздухе. А про других и вовсе ничего не было известно и оставалось только гадать, в какой переплет они попали.
Позже мы узнали про ТБ-3, которые в одно время с нами бомбили переправу через Березину. Эти самолеты еще на Халхин-Голе из-за тихоходности использовались только ночью. А тут они пошли среди бела дня, одни, без прикрытия. Зенитная артиллерия противника могла вести огонь успешно: при солнышке-то чего не стрелять! И вот пошли ребята на задание, тридцать машин, и над шоссе Могилев — Бобруйск немцы в несколько минут сожгли восемь наших самолетов.
Мы оставались моряками и надо было успевать на всех фронтах: летали на разведку и минные постановки, бомбили транспорты в Ирбенском проливе. Когда поступали сведения о движении больших конвоев, мы подвешивали торпеды и уходили в море.
Больше всего Грехов любил «свободную охоту». Это было в его вкусе: ничто его не связывало, он был независим и отвечал только за себя. Но, правду сказать, я не любил эти полеты. Уходили в одиночку, обычно в плохую погоду или ночью, потом долгий поиск…
В иные дни мы делали по три-четыре боевых вылета, кабины не успевали проветриться: пахли бензином, порохом, нагретым металлом. Спали не раздеваясь и положив под головы парашюты. Оружейники валились с ног после возни с бомбами, взрывателями, пулеметными лентами. Пальцы рук у них разбухли от набивки лент. У нашего радиста Матвея Рябцева в комбинезоне дыра на дыре. Он и без того был неряхой, а тут и вовсе на оборванца стал похож. Броневой фартук не закрывал ног, осколками снарядов Матвею разорвало унты и меховые штаны. На первых порах он еще штопал их, а после бросил. «Рвань, — говорил Грехов, глядя на своего радиста, — смотреть тошно…»
И вдруг все кончилось. Их словно вытряхнули из жизни полка. Стогов так и сказал — «вытряхнули».
Небо над аэродромом было мягкого, бледно-голубого цвета. Заметно припекало солнце, день обещал быть жарким. Стогов стоял в строю и из-за плеча Грехова наблюдал за командиром полка, который разговаривал с комиссаром. Комиссар, по-южному смуглый, коренастый и плотный, то и дело доставал платок и вытирал бритую голову. Командир, синеглазый тридцатилетний полковник, хмурился, слушая комиссара, и нетерпеливо кивал головой.
Стогов очнулся, когда услышал:
— …отбираются в оперативную группу для выполнения специального задания… — Комиссар читал список экипажей, отпечатанный на листке тонкой бумаги: — …капитаны Рытов, Скосырев, Стахеев, старший лейтенант Преснецов, лейтенанты Лазарев, Смородин, Навроцкий, Чугунов…
Летчики выходили из строя. Стогов смотрел на знакомых пилотов, точно видел их впервые, и тут услышал:
— …лейтенант Грехов, младший лейтенант Ивин.
Командир полка ничего не стал объяснять, только сказал:
— Перебазируемся на оперативный аэродром. Подготовить материальную часть к вылету.
Настали томительные дни ожидания. Остальные продолжали воевать, улетали, не возвращались… А они теперь даже жили отдельно, в палатках на краю аэродрома.
Летчики и штурманы списывали девиацию компасов, прибористы меняли оборудование, механики и мотористы целыми днями пропадали на стоянках: на многих машинах двигатели недодавали оборотов. Экипажи работали, но все равно тяготились бездействием, что-то противоестественное виделось им в этом сидении. Они переживали тоскливую пустоту после тяжелых и горьких дней, медленно приходили в себя — оглушенные, оглохшие от тех страшных дней поражений и потерь.
На машине Грехова работы были закончены, и теперь она с зачехленными моторами и накрытая маскировочной сетью стояла в леске на краю летного поля. Грехов все реже оставался со своими, убегал встречать знакомых летчиков или провожал экипажи, вылетавшие на задание. После ужина он подолгу засиживался в столовой, не зная куда себя деть. Возвращался в темноте, долго укладывался, ворочался в постели, ругался.