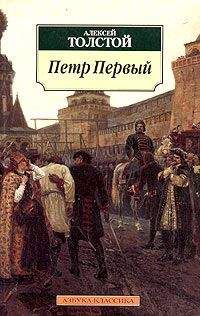Объяснить это тем, кто не жил тогда, невозможно, особенно нынешней молодежи, привыкшей к чудовищному изобилию спиртного на каждом углу. Но ей и вообще многого объяснить невозможно, хотя, глядишь, поживут и не такого насмотрятся.
А тогда пили много, причем каждая студенческая попойка становилась чем-то вроде праздника победы, потому что перед этим всегда приходилось выдержать бой, нередко с самым настоящим кровопролитием.
По доброй традиции пединститутов, молодых людей на литературном факультете было гораздо меньше, чем девушек, поэтому если уж с водкой и в стране, и в городе были проблемы, то во всем остальном мы как сыр в масле катались. Понимая под этим не всякие там дефицитные шмотки, а самую насущную в восемнадцать лет часть нашей жизни, ее прекрасную половину.
И несмотря на то что женская составляющая наших гулянок постоянно обновлялась, мужской ее костяк сложился и выкристаллизировался довольно скоро — к концу первого курса он был уже монолитен и каноничен.
Это было самое блаженное время нашей студенческой жизни, заумные «ботаники», а также все немощные духом и телом отсеялись, и уже весь остальной курс знал: если во время лекции дверь в аудиторию открывалась с ноги и в проеме на мгновение возникала белобрысая Вовкина голова, то в самом непродолжительном времени и под самыми, конечно, благообразными предлогами аудиторию покинут и остальные «олимпийцы». «Олимпом» у нас называлась запасная лестница на крышу, которая вся в целом служила местом для курения, а верхний ее, самый поднебесный пролет, собственно «Олимп», посвящался целиком и полностью только одному божеству: Бахусу или Вакху. В зависимости от того, «бухали» еще там или уже переходили непосредственно к вакханалиям.
Меня еще и сегодня поражает та мудрость, с которой преподаватели наши и сам ректор все это терпели: ведь из всех из нас вышли в целом неплохие люди, хотя, если не ошибаюсь, именно в учителя практически никто и не пошел.
Тем не менее все профилактические меры, вплоть до угроз закрыть запасную лестницу, предпринимавшиеся время от времени институтским начальством, носили больше пропагандистский, нежели карательный характер и сводились в конечном счете к недопущению совсем уже панибратства со стороны нас, будущих педагогов, в отношении к своим наставникам. Я думаю, вряд ли ошибусь, предположив, что и они, наши преподы, были связаны той же «олимпийской» тайной со своим, таким уже тогда далеким, студенческим прошлым.
* * *
С нами, вчерашними десятиклассниками, на первый курс поступили и несколько ребят, уже отслуживших в армии. Один из них, спецназовец Чика, или, официально, Андрей Чикин, служивший в знаменитой дивизии имени Дзержинского, прошел огонь и воду подавления беспорядков в Сумгаите и Тбилиси, штурм Сухумского изолятора и многое другое, что для нас, последних могикан безоблачного советского детства, находилось еще за гранью вероятного. Тем не менее именно рассказы Чики, ставшего едва ли не душой всей компании, с одной стороны лучше всякого еще только-только входившего в нашу жизнь Голливуда рисовали перед зачарованными юнцами бесхитростные картины счастливой жизни крепких парней с автоматами в руках, с другой же стороны — и за это ему огромное спасибо — рассказы эти разоблачали ту чудовищную ложь об армии, что именно в те годы обвально хлынула в души граждан великого тогда еще государства.
Так или иначе, но место культа знаний в нашей жизни постепенно занял культ силы, а термины языкознания и литературоведения по-интеллигентски поспешно уступили место названиям тех или иных ударов в восточных единоборствах и маркам автоматического оружия. Наверное, это могло тогда показаться частью совершенно естественной для юности воинственной бравады, и кто бы знал, что это — надолго.
Студенчество наше сколь лихо началось, столь же лихо для многих и закончилось, и с разницей в год-полтора практически всех «олимпийцев» судьба, как пробки из шампанского, повыстреливала во взрослую жизнь, каковой тогда для всех нас оказалась армия.
Уж не знаю, насколько это можно назвать везением, но моя «армия» закончилась очень быстро — острым приступом язвы двенадцатиперстной кишки, комиссовали меня прямо из учебки. Обратно в студенчество тоже влиться не удалось, потому что, пока я собирался составить гордость и славу внутренних войск, мое семейное положение «на гражданке», к немалому моему удивлению, стало меняться в сторону скорейшего отцовства, и обещание дождаться любимого из армии у моей будущей жены получило самые неожиданные гарантии. Поэтому уж кто-кто, а Валька моему скоропостижному освобождению от почетной обязанности обрадовалась искренне и просто, невзирая на всю двусмысленность такой радости. В общем, хлеб насущный, а также детское питание насовсем отделили меня от догуливавшей свои последние деньки «олимпийской» вольницы.
А там приспели перемены работы и места жительства, «перемены» вообще — когда время кончилось и наступили времена. И оказалось, что отыскаться во «временах» гораздо сложнее, чем в многомиллионной Москве…
Был солнечный, с блеском мокрого асфальта и наивной синевой апрельского неба московский день. Мы гуляли с сыном в парке возле нашего дома, он время от времени убегал и, скрываясь из виду, с каждым разом возвращался все грязней и грязней. Я догадывался, что потомство мое, по всей видимости, «становится на крыло» и в прямом смысле учится летать. В этом наблюдении было немало грустного: вот-вот он совсем оперится, первым делом отбросит надоевшую вязаную шапочку, а потом и все надоевшее, в том числе и эти наши совместные прогулки. И куда его понесут затем легкие, одним лишь родителям видные крылья? Бог весть…
Так или иначе, но «птичья» тема не покидала меня, готовые образы и сравнения услужливо возникали в голове, и, честно говоря, я даже не удивился, когда, присаживаясь на влажную еще парковую скамейку, увидел в руках у сидевшего на ней парня журнал «Дикие гуси».
Впрочем, еще раз прочитав заглавие, я уже внимательнее всмотрелся в своего соседа: это был невысокого роста, коренастый парень лет двадцати пяти, он не разглядывал обвязанных пулеметными лентами (и только) глянцевых красоток на разворотах, не изучал с видом знатока оружейные новинки, его интересовали небольшие объявления на последних страницах. Их он подолгу прощупывал взглядом и, казалось, старался вычитать что-то между строк.
Очередная отлучка моего чада явно затягивалась, и когда я, проискав его какое-то время и перехватив уже на берегу огромной лужи (на смену «летной» шла «морская» романтика), вернулся на скамейку, парня там уже не было…
* * *
Об этом журнале, русском варианте «Солдата удачи», рассказал мне Вовка. Во время нашей последней встречи. Самой последней, как оказалось…
От кого-то из наших общих институтских знакомых он узнал мой московский телефон — и вот спустя семь лет после того, как мы с ним виделись в последний раз (кстати, на проводах в армию одного из последних наших «олимпийцев»), он объявился в первопрестольной, о чем тут же радостно известил меня по телефону.
В Москве, как выяснилось, он и раньше бывал часто, «приезжал погулять»… Правда, в тот раз гулянье у нас с ним не заладилось — у моего малыша обнаружили круп, он температурил и задыхался. Поэтому мы немного посидели с Вовкой на кухне, а потом он и сам, провожая взглядом невыспавшуюся и замотанную Вальку, убиравшую со стола, засобирался и, как водится, наврал, что ему еще куда-то нужно. Причем врал он все так же, будто и не было этих страшных лет, — щуря свои честные, пронзительно-синие глаза.
Что Вовка мне рассказал в тот приезд? То, что я уже и раньше слышал о нем: что после дембеля он уже несколько раз устраивался служить по контракту, что деньги хорошие, только платят их не пойми как, да еще и норовят недодать, что надоело ему работать (он так и сказал — «работать») здесь. Спрашивал меня про журнал «Дикие гуси», а так как я не знал, то заодно и просветил, что это журнал для наемников и что через него можно завербоваться куда-нибудь «на хорошие бабки». Странно, но он совсем не изменился, хотя по тогдашним нашим семейным обстоятельствам у меня и не было времени особо в него вглядываться, но, по-моему, так оно и было: Вовка как Вовка.
Вот, пожалуй, и все, что я помню о той нашей встрече, ничего необычного, разве что он на полном серьезе несколько раз назвал себя «рейнджером» да жетон этот на груди показал. Я еще тогда спросил: «А что же крест не носишь?» Но Вовка только рукой махнул…
Все это я сбивчиво и рассказал в новогоднюю ночь за столом, Валя уже ушла спать, мы с Евгением Николаевичем сидели одни.
— Ты смотри, — сказал Вертаков, — как мир тесен! А я ведь специально тебе все это приготовил.