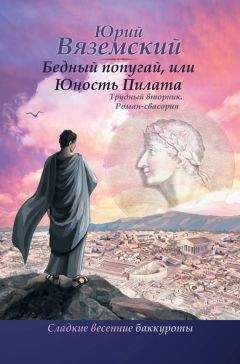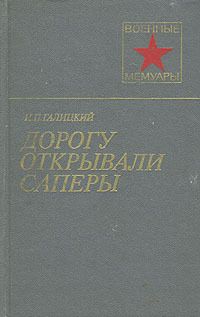Совсем по-другому, с иным блеском, смотрели его глаза на людей, какого бы они чина–звания не встречались.
— Пачэму стаишь? Пачэму нэ дэлаишь? — угрюмо спрашивал он.
И даже тот, кто не стоял, кто что‑то делал, не находил слов, чтобы ответить генералу, вынырнувшему из леса, как привидение, как леший, если б не мокрый, курившийся паром конь, и не шинель, по самый ворот заляпанная грязью.
А позади него в облаках пара, плывшего над конскими крупами, крепла в седлах грозная дружина, тоже по уши покрытая болотной жижей, но сверкавшая непримиримыми глазами. Даже звезды в тускло-зеленых полевых генеральских петлицах, казалось, блестели сквозь грязь яростным светом.
За той яростью и блеском никто не различал мокрых, грязных шинелей, прилипших ко лбу потных, спутанных волос, безмерно усталых лиц, измученных невероятной дорогой. Все видели только страшную опасность, внезапно возникшую лично для себя. Им было не понять, чего от них хотели, что они должны были »дэлать». Зато понимали, что пришел час расплаты за все то, что у них не получилось, да и у других тоже.
У генерала не было пустых слов и угроз. На никчемные разговоры времени он не тратил. Знал, что с природой, с бездорожьем, которое и сам только что испытал, он ничего сделать не может.
А вот с людьми… Он хорошо знал, что может с ними сделать. Знал, что всюду, куда ступит его нога, куда достанут глаз и голос, все станут работать сверх сил человеческих.
И, вероятно, только в нечеловеческом напряжении всех могло здесь что‑то сдвинуться, получиться как надо, как получалось у него и не раз там, где никто не видел никакого выхода.
Поэтому и послали сюда е г о. С не выполнимой ни для кого задачей. Е г о. Напористого, неудержимого, беспощадного.
Всэ у нэго будут нэ ходить — лэтать. Дэлать будут. «Дэлать!» — сказал маршалу он, выезжая на фронт.
И на него надеялись. Он, верили, спасет окопных людей от голодной смерти. Не всех. Но сколько сможет, спасет.
* * *
— Бэз пушка ваэвать можна! — сурово сказал он собранным к нему командирам без всяких вступлений и разъяснений. — Без патроны, бэз сапоги тоже можна!
Он обвел всех горящими глазами и закричал:
— Бэз хлэба ваэвать нэльзя!
Глубокий гортанный голос клокотал гневом. И все собранные сюда командиры, от лейтенантов до подполковников, почувствовали себя виноватыми, хотя каждый и понимал, что сам он делал все, что мог, больше того, что мог, все эти две безумные недели, когда передовая из‑за весенней распутицы осталась без снабжения.
— Пачэму в окопах голод? Пачэму?
Грозный кавказский человек задавал вопросы, на которые ответа не было. Или он был, но его никто не осмеливался произнести вслух.
Вздохнув и расправив под ремнем гимнастерку, шагнул к генералу полковник — заместитель начальника тыла армии. Еще раз глубоко вздохнул и заговорил о том, что все знали, — о дорогах, павших лошадях, распутице.
— Брэд! — сверкнул глазами генерал. — Нэ объяснение. Садытэсь, майор!
И в ответ на недоуменные взгляды и ропот, прокатившийся меж рядов, закричал:
— Да. Да! Нэ палковник. Майор. Я разжаловал. Я!
Он чуть повернул голову к своим сопровождающим и требовательно протянул к ним руку, ни к кому из них не обращаясь.
И тут же в ней оказался небольшой листочек голубоватой бумаги.
— Капитан Шаламов! — косо, по-птичьи глянув в этот листочек, угрюмо сказал генерал.
И когда в зале поднялся полный, круглый, как шар, интендант, тихо спросил его:
— Гдэ водка? Вэдро водка.. Ящик кансэрва. Гдэ? Украли?
— Нэт, — неожиданно с таким же кавказским акцентом ответил интендантский капитан.
— Как нэт? — удивился генерал и даже оглянулся на тех, кто передавал ему голубую бумагу. — А гдэ они?
Не будь так сложна и напряженна обстановка, не будь во вчерашней армейской сводке двадцати трех красноармейцев и сержантов, умерших в окопах от голода, может быть, и выкрутился бы интендантский капитан, может быть, и жил бы, воюя лейтенантом или рядовым.
Сейчас генерал его даже не дослушал.
— Расстрэлять! — отсекая, рубанул он кистью наискосок.
И смерть прошелестела в зале над головами всех остальных интендантских начальников.
* * *
Еще в самом начале нового тысяча девятьсот сорок второго года тысяча сто пятьдесят четвертый полк шел след в след за кавалерийским корпусом генерала Белова. Ломился, как и кавалеристы, без дорог, напролом.
Отставали тылы, отставали кухни, пехота и артиллерия шли вперед.
Вымотавшиеся бойцы и командиры противотанковой батареи ели горячую кашу — она же и суп — раз в сутки. Один‑то раз старшина Пустынников исхитрялся догонять огневиков на привале или в скоротечном бою.
Никто не жаловался. Но командиры орудий, что ни день, тревожнее докладывали — силы бойцов на исходе.
Командир огневого взвода Железняков, тогда еще младший лейтенант, по молодости лет эти доклады слушал вполуха. Одного раза в день, считал он, когда еды »от пуза», должно хватать.
— Учитесь у ездовых, — оборвал он однажды сержантов Полякова и Мартыненко, тревожившихся за свои расчёты. — Выделите кого‑нибудь, пусть, как они, в ведрах еду варят.
Командиры орудий, понимающе глянув друг на друга, хмыкнули.
— Да, что они жрут‑то? — брезгливо то ли спросил, то ли обругал ездовых Поляков.
Позже докатились до Железнякова то ли слухи, то ли ябеда, чему он сначала даже не поверил. Хотя уже обращал внимание, что многие огневики — и те, кто раньше хорошо относился к степенным сорокалетним мужикам–ездовым, и те, кто относился к ним так-сяк, — плевались, глядя, как на привалах у них над костром булькает в закопченном черном ведре какое‑то варево.
— Падаль жрут! — услышал он как‑то. И снова не поверил.
А вскоре, углядев на марше, как соскочил с подводы Буйлин и, прихватив с собою все то же черное ведро, быстро-быстро затопал по белому снегу за сарай, тронул шпорой Матроса, и тот, нехотя сойдя с дороги, двинул через сугроб за ездовым.
У сарая конь зафыркал, закосил глазом и попятился. Вроде бы и ни к чему было Железнякову смотреть, что там за сараем, да застряли в памяти то неясные, то определенные намеки и брезгливые оглядки на, ездовых. Заставил он упирающегося коня сделать четыре шага за угол. Но дальше тот не пошел, встал намертво.
Соскочив наземь, лейтенант быстро, чтобы застать, чтобы не упустить, в два, прыжка очутился рядом с Буйлиным. И тут его зашатало от подступившей к горлу тошноты.
Не зря тревожился и фыркал Матрос, не зря. За сараем взблескивали сверкали в руках ездовых топоры и рубили они там его единокровного брата.
Буйлин и невесть откуда, взявшийся Ермошкин, увлеченные своим делом, даже не заметили подошедшего лейтенанта. Хорошо еще, что не во внутренностях копались ездовые. Если бы по снегу пластались кишки и другая требуха, не устоять Он на ногах Железнякову.
— Прекратить, — просипел он севшим голосом. Захлебнулся слюной, забившей вдруг рот, отплевался и взревел. — Встать! Смирно!
Пожилые, мешковатые мужики испуганно вытянулись перед ним, опустив вдоль ног топоры.
— Это что? — грозно ткнул Железняков плетью в ведро с нарубленной кониной. — Что творите, Буйлин?
Тут только дошло до ездовых, за что сердится взводный. Только понять, в чем виноваты, не смогли. И заулыбались во весь рот, думая, что сейчас все разъяснят.
— Махан, — блеснул зубами Ермошкин.
— Махан — харрашо, — подтвердил Буйлин, разинув рот до ушей.
— Дохлую лошадь? Падаль? — еще свирепее взревел лейтенант. — Сами копыта отбросите, балбесы!
Подошедшие на крик батарейцы хмуро поглядывали то на ездовых, то на ведро, полное мяса. Но ни Буйлин, ни Ермошкин на них даже не оглянулись.
— Нам, мордвинам, махан — что вам теленок, — успокоил лейтенанта один из них.
— Махан — харрашо, — снова, подтвердил другой. — Ведро на двоих — паррадок.
Весь дневной переход ехал взводный, задумавшись, то рядом с одним ездовым, то с другим. Слушал их торопливый говорок, переспрашивал иногда и опять задумывался. Торжествующих сержантов гнал на место, отмахивался. Пусть подтвердилось то, о чем они говорили и слухи перестали быть слухами, но неясность оставалась. Как быть с ездовыми: запретить им варить конину или разрешить? Да или нет? Почему да? И если нет, то тоже почему? Надо объяснить. Для начала самому себе.
А убитый конь — не падаль. И на морозе сохраняется, как в леднике.
Вечером у костра, на привале, попробовал Железняков потолковать со взводом о национальной еде. Но сам понял, что особого успеха его лекция не имела.
С ним соглашались, что в башкирских и татарских селах конина — действительно привычная еда. Даже колбасу из нее делают. Соглашались, что мусульмане и верующие евреи свинины не едят, а в батарее такую еду только дай — треск пойдет за ушами. И нечего хаять Буйлина с Ермошкиным, не отказывающихся от еды, к которой привыкли с детства.