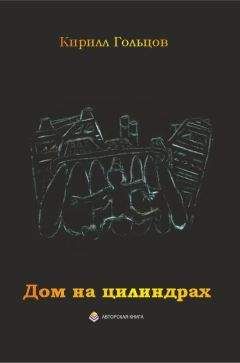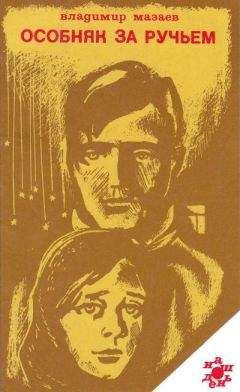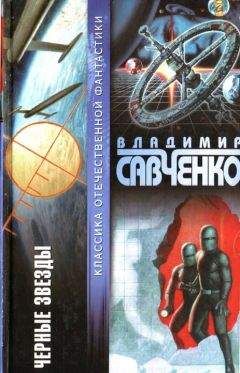Треск чужого вертолета-разведчика давно стих где-то за хребтом, но долина по-прежнему выглядела пустынной, метель незаметно улеглась, небо немного расчистилось, словно бы к морозу. Неужто синоптики ошиблись, и циклон прошел далеко стороной?..
Мороз действительно усилился к ночи. Стужа медленно, упорно натекает под полушубок, накапливается, вползает в тело, пробивая сквозной дрожью, даже скулы сводит, и уже нет желания вскочить, пробежаться, устроить возню с разведчиками — только бы лежать неподвижно, сжимаясь в ком, пряча остатки тепла глубоко-глубоко в себе.
Разведчики, кроме Воронова, ничем не выдавали себя. Воронов же поминутно возился, высовывался из окопчика, покашливал, и Дагаев, несмотря на досаду, жалел парня, даже раскаивался в душе, что взял его на это задание. Просил же начальник клуба части оставить Воронова в лагере, помочь выпустить специальную радиопередачу и фотогазету, в чем Воронов незаменим — он и тексты мигом напишет, и куплеты сочинит, и музыку подберет, и дикция у него неподражаемая. Дагаев уже привык, что Воронов в дни учений и всяких авралов оставался при начальнике клуба «приданной силой». Солдату это, похоже, нравилось. Дагаев тоже оставался доволен: Воронов никогда не забывал прославить своих всеми средствами местной информации — от листовок до радиопередач. А тут, в начале учений, сам Воронов завел непривычный разговор:
— Разрешите, товарищ лейтенант, рассказать невыдуманный случай?
— Валяй! — хмыкнул Дагаев.
— Один мой знакомый, йог-любитель, как-то решил питаться исключительно капустой с растительным маслом. Представьте, полмесяца ничего другого в рот не брал.
— Ну и чего же он достиг?
— А достиг он, по-моему, только того, что одни знакомые прозвали его Кочаном, другие — Кочерыжкой.
— Умные знакомые были. Но что-то не пойму, куда клоните.
— Да я ж про себя, товарищ лейтенант! Второй год служу в разведроте, а благодарности у меня — все за какую-нибудь самодеятельность. Вроде той капусты получается…
И Дагаев включил Воронова в боевой расчет.
Похоже, что Воронов сейчас с непривычки мерз больше других. Представилось посиневшее, искаженное холодом лицо парня, опять шевельнулись жалость и чувство смутной вины перед Вороновым. Дагаев вспомнил, как, высаживаясь из вертолета в дикой долине, близ гранитной скалы на опушке кедрового леска, Воронов, бодрясь, громко сказал, кинув быстрый взгляд на командира: «Что, парии, зададим жару неприятелю, а потом и для себя соорудим костерок пожарче да будем чаек попивать в ожидании воздушного такси. Мой знакомый, йог-любитель, утверждал, будто бы чай укрепляет волю и продлевает жизнь. Каждые сто литров чая, выпитые вместо двухсот литров вина, увеличивают бренное существование человека ровно на триста шестьдесят дней». Шутки не вышло, разведчики вроде и не расслышали, только заместитель Дагаева, немногословный, серьезный не по годам сержант Амурко, хмыкнув, ответил: «С чайком-то, видно, придется подождать до возвращения в часть, А вот жару нам скорее дед-мороз задаст — настраивайтесь терпеть». Сержанта тут же поддержал мягким баском весельчак пулеметчик Нехай: «Ты, Воронов, другый год служишь в розвидки, а судишь, як той пысьменнык, що у своей книги размалював, як солдат виз на учение живых баранив, щоб, значит, з ных шашлыки жарыть. Мы усим взводом реготалы».
В словах Нехая прозвучал открытый намек на легкость, с которой шла служба у Воронова, и Дагаев опять почувствовал неловкость: Воронов, кажется, и в самом деле первый раз попал в столь сложный переплет — пулеметчик Нехай прав. Но не по вине же Дагаева служба Воронова чаще проходила в местах более уютных, чем зимние горы, — он со всеми его талантами нарасхват в части…
Из письма Федора Дагаева
«…Знаешь, брат, вспомнил я слова отца в день первых проводов моих на границу после училища. Я, говорит, не буду тебя учить, как службу нести. Вы, мол, нынче сами достаточно грамотные, и техника у вас на грани фантастики. А вот люди, они людьми остаются. Ты понять старайся, в чем нуждается парень, чтобы настоящим воином стать. Поймешь — остальное сумеешь при желании. И еще помни: когда сложился характер, ломать его — все равно, что кирпичный дом наново перестраивать. Так что не опаздывай…
Юнцами мы не очень склонны запоминать поучения, даже родительские. Мне вот теперь только разговор вспомнился. А почему? К награде недавно представляли мы одного парня. Первого года службы, виду не геройского, в общем, из тех, которые много хотят, да немного умеют. Признаться, я до сих пор предпочитал таких, которые умеют больше, чем хотят…
Подвел он меня однажды крупно. Надо было в команду от заставы включить молодых солдат для участия в комплексных состязаниях, а наши новички только-только прибыли из учебного, способностей их я не знал, на проверку времени не оставалось. Одного вызываю, другого, третьего — мнутся: ответственно, мол, боимся подвести. Дошло до рядового Иванушкина, а он только и ответил: «Есть!» Разумеется, я его тут же и в список… Ох, брат, позлословили потом надо мной соседи: что же, мол, такие вот у вас лучшие стрелки, спортсмены и следопыты? Какие же тогда худшие?..
Сам знаешь, нам с тобою нельзя обнажать свои симпатии и антипатии к подчиненным. Но засела во мне досада на этого Иванушкина. Самолично гонял его на занятиях с секундомером в руках. Да только редко он в нормативы укладывался. Но ведь упрямец какой! Куда бы ни требовались добровольцы — первым вызывается. Ты знаешь, солдаты на язычок бойкий народ, доставалось ему со всех сторон, а он, чертенок, и бровью не поведет, будто не его касается…
Как-то шла от нас машина в поселок, Иванушкин ко мне: «Разрешите съездить? Мне двух часов хватит, пока машина будет загружаться». После узнал я, что у него в поселке девушка завелась, когда в учебном службу проходил… Взяли меня сомнения: опоздает же, не очень-то надежный парень… Говорю ему: «Вы вот обещали, например, за месяц научиться через коня прыгать, а ведь уже второй кончается. Как же верить вам?» Помрачнел мой Иванушкин. «Разрешите, — говорит, — я сейчас прыгну». «Добро», — говорю, а пограничники из-за спины Иванушкина смеются. Вышли на площадку. Раз он прыгнул — не вышло, другой, третий… Раз десять пытался, да так и не осилил коня. Смело идет, а ловкости и умения не хватает. Опустил голову, слинял как-то: «Разрешите идти?» Право, хотелось мне его все же отпустить тогда в поселок, но опять досада взяла. Зачем напросился на прыжки, недотепа ты этакий! Опять ведь смеются над тобой, и когда поумнеешь?..
А дня через два, ночью, наряд, в котором был Иванушкин, столкнулся с нарушителем… Ты небось думаешь, в наше время «классический» нарушитель только в книжках остался? И погони, схватки, перестрелки в легенды ушли? Нет, Гриша, граница есть граница. При всех средствах наблюдения, оповещения и прочем столкновение с врагом лицом к лицу тут совсем не исключено. Матерый нарушитель нашим парням попался, напролом шел. Старший наряда, ефрейтор, принял его вначале за охотника, заплутавшего в горах. Окликнул, как положено, а тот — из пистолета на голос… И ранил парня. Не сильно ранил, но все равно солдат уж не вояка. А ночка — глаз коли, да еще с дождичком. Ты сам знаешь, какие у нас тут ночки в конце осени выпадают… Ефрейтор командует Иванушкину: преследуй, постарайся взять живым, а я доложу на заставу, да и перевязку как-нибудь сам сделаю… Вот они, брат, наши девятнадцатилетние солдаты, на мальчишество которых мы частенько сетуем.
Словом, остался мой Иванушкин один на один с матерым нарушителем в ночных горах. Не буду писать, о чем передумал я, когда узнал ситуацию, — сам командир, поймешь. Не стану и поиск наш описывать. Шел он не один час, дождь следы смыл. Только утром нашли мы Иванушкина. Сидит на камне под колючей бояркой, мокрый, оборванный, в одной легкой тужурке — шинель и плащ он сбросил, чтоб не мешали. Осунулся, посинел, руки на автомате закостенели. Встал. «Товарищ капитан, нарушитель государственной границы, оказавший вооруженное сопротивление, задержан. На заставу идти отказывается…» Только тогда увидел: лежит в ямке человек в брезентовом ватнике, рожу отвернул, не шевельнется, будто не слышит…
Я ведь не сентиментальный человек, ты знаешь, а тут едва удержался, чтоб не расцеловать моего парня. Не столько тому обрадовался, что нарушителя задержал — от нас он все равно не ушел бы. Сам Иванушкин уцелел и выдержал такое испытание — вот что мне дороже всего показалось. Выходит, плоховато знал своего пограничника… И еще одну старую-старую истину заново уяснил для себя: в настоящем бою, конечно, и сила и ловкость нужны, но всего заглавнее — дух и стойкость…»
* * *
Зимний закат скор. Еще желто-красное солнце, нежданно проглянувшее в тучах словно для того, чтобы попрощаться с землей, цепляется за неровную, почерневшую гряду на западе, а в воздухе уже разлит сумрак, даже блеск снегов притушен и угрюм, чувствуешь — ночь где-то рядом, вокруг тебя, она выползает из тени мелколесья, смотрит из горных ущелий, ждет близкой минуты, чтобы разом затопить округу, даже небо на глазах тяжелеет, становится ниже…