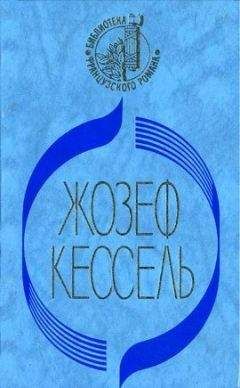Однако его останавливало воспоминание о Денизе. Она проявила такую нежность, такую преданность. Неужели он изменит ей, едва расставшись? Но один решающий довод восторжествовал над его щепетильностью. Завтра он будет на фронте. Разве не имел он права на небольшую слабость? Он обнял молодую женщину, не почувствовав никакого сопротивления.
Когда Нелли покинула его, он, слегка уставший, прикрыл глаза, смакуя несколько минут воспоминание о столь быстром триумфе. Вдруг ему почудилось, что рядом с ним присела чья-то тень. Он вздрогнул и огляделся. Никого. Никого не было и в коридоре, и во всем вагоне. Абсолютная тишина, нарушаемая только мерным покачиванием поезда, навалилась на него, и он понял, что его внезапное одиночество превратилось для него в присутствие чего-то реального.
Поезд ехал с боязливой осторожностью, освещая себе путь дежурными фарами, а снаружи ночь по плотности могла бы сравниться с черным мрамором. Молодой человек, словно только сейчас осознав значение этого слова, прошептал:
– Фронт!
Прильнув лицом к стеклу, он попытался, правда безуспешно, проникнуть взглядом сквозь мрак, гигантской накидкой укрывавший так близко находящиеся окопы и тысячи встревоженных людей.
Ему показалось, что глухой удар отозвался в его груди.
– Пушка, – снова прошептал он, будто сделав новое открытие.
Напрягшись, он вслушивался, чтобы не упустить ни малейшего шума в дыхании этих незнакомых ему земель. Его раздваивало тяжелое чувство. С тех пор как он уехал из Парижа, прошли считанные часы. Ему еще казалось, что он видит перед собой лица родителей, сжимает руку своей подруги, у него перед глазами еще стояла пестрая витрина привокзального газетного киоска, у которого он остановился. А в то же время он чувствовал, что уже прочно связан с теми местами, где умирают люди. Через это лее самое окно он смотрел на светлое лицо Денизы, а сейчас он видел мрачный и таинственный фронт.
Мягко, почти нежно, продвигался поезд вперед, он словно бы догадывался о том, что отныне человеческое существо приобретало особую хрупкость. В этом покачивании, в этой тишине, иногда прерываемой отдаленным грохотом, опьянение, дурманившее его с самого отъезда, испарялось. Вскоре он не находил в себе ничего, кроме тревожного ощущения одиночества, и в его обезоруженном мозгу возникали неожиданные вопросы. Какая необходимость заставила его пойти добровольцем на военную службу? Выбрать наиболее опасный род войск?
Он вновь со всей четкостью увидел горящий самолет, сбитый возле летного поля школы, и подумал о том, что однажды и его тело может точно так же разлететься на кусочки.
До чего же невыносим был этот еле плетущийся поезд. Казалось, что он везет гробы. А чего стоил этот бледный свет ламп, а эта расплющенная ночью равнина!
Теперь Эрбийон упрекал себя. Ему хорошо было известно, что толкнуло его в авиацию. Это была не жажда героизма, а тщеславие. Он позволил себе поддаться соблазну носить форму, блистательные знаки отличия, его подтолкнул престиж летчиков у женщин: Именно это заставило его принять окончательное решение. Им овладел порыв ненависти против этих слабых и извращенных созданий, ради которых он пожертвует своей жизнью. И Дениза показалась ему особенно ненавистной из-за того, что не отговорила его.
С внезапной горечью, пытаясь отыскать и другие поводы для недовольства, он вспомнил о том, что ничего не знал об этой молодой женщине: ни ее друзей, ни где она живет, ни даже ее фамилии; у него не было ни одного ее изображения и только однажды по обручальному кольцу, которое она забыла снять с пальца, он догадался, что она замужем. Эта таинственность, до сих пор неизъяснимо его привлекавшая, теперь показалась свидетельством ее недоверия и холодности.
Он подумал, что благодаря приключению с Нелли он смог осуществить справедливую месть, и попытался рассеять свою тревогу в воспоминаниях.
Однако поезд теперь тащился с такой осторожностью, что, казалось, с ним рядом можно было бы идти пешком. Жану захотелось выйти, чтобы отряхнуть эту невыносимо давившую на него тяжесть, и это желание пробудило в нем тоску.
«Я боюсь», – подумал он непроизвольно.
Он попытался найти себе оправдание, но все доводы рассыпались перед переполнявшим его отвращением к самому себе. Зачем себя обманывать? Причиной его недовольства самим собой и раздражения на Денизу был страх.
Он, со смехом рассуждавший об опасности, считавший трусами тех, кто понимал значение слова «страх», он, офицер-стажер Эрбийон, боялся. Причем еще до того, как соприкоснулся с опасностью. Стыд, охвативший его, оказался настолько сильным, что он даже не заметил, как ужас его полностью улетучился.
Солнечный луч широким лезвием разомкнул веки Эрбийона. Он, ревниво оберегая свой сон, отвернулся, но тут же под воздействием мощной звуковой волны ходуном заходила крыша, и тогда, ослепленному светом и оглушенному грохотом, ему пришлось встать.
Его первый взгляд пересек комнату и в недоумении остановился на подставке с горшком для воды. Откуда взялась эта мрачная конура, оклеенная просмоленной бумагой? Однако стоило Эрбийону заметить свой чемодан, еще закрытый, как его очертания всколыхнули всю цепочку воспоминаний. Он находился в эскадрильи.
Спрыгнув с кровати, он схватил свою униформу. Разбудивший его гул был гулом мотора: где-то летали, вероятно, было уже поздно. Он с тоской подумал, что его сочтут ленивым. В ту же секунду узенькая дверца отворилась и через нее с трудом протиснулся массивный и неуклюжий, как медведь, солдат.
– Я ординарец, – сказал он. – Может быть, господин лейтенант хочет горячей воды? А попозже я принесу кофе.
Солдат был одноглазым, отчего Жан почувствовал определенную неловкость. С некоторым колебанием он ответил:
– Спасибо, не надо. Я предпочитаю холодную воду.
Он подумал и, сделав над собой усилие, добавил:
– Нужно было разбудить меня раньше.
– Капитан приказал, чтобы господину лейтенанту дали возможность выспаться, – сказал солдат, моргнув своим единственным глазом.
– Ах, капитан… – пробормотал Жан.
– Этот человек знает, что говорит, – важно добавил ординарец. – Господину лейтенанту на все хватит времени.
Солдат держался как-то по-свойски, офицеру-стажеру это нравилось. Однако он подумал, что необходимо заставить себя уважать.
– Хорошо, – сухо сказал он. – Сегодня утром завтракать я не буду.
Его влекло к себе солнце и этот оглушительный гул, то затихавший, то возобновляющийся с новой яростью, который он узнавал по вращающимся винтам. Когда он вышел из своей комнаты, его остановила темнота. Он оказался в узком, длинном и темном коридорчике, куда выходило два ряда параллельно расположенных дверей. Заметив слева просвет, Жан направился прямо к нему.
Он вошел в просторную комнату, вдыхающую свет сразу четырьмя окнами. Она была оклеена тисненым картоном, и перед белой, усыпанной голубыми цветами клеенкой, покрывавшей длинный стол, Жан испытал чувство свежести и веселья. Он разглядывал сооружение из полок, украшавших один из углов комнаты, как вдруг услышал:
– Вас уже интересует бар, господин офицер-стажер. Вы далеко пойдете.
Голос прозвучал звонко, резко и так искрился радостью, что сквозь Эрбийона словно прошла благодатная волна. Он повернулся всем телом. Перед ним на фоне темной пасти коридора, сложив за спиной руки, стоял незнакомый молодой человек. На нем был черный мундир, ткань которого блестела почти так же, как и позолоченные пуговицы. Мундир плотно облегал худощавое тело и тонкую шею. Изящная стройность тела гармонировала с изяществом открытого лица, продолговатыми и горящими глазами, прямым носом, тонкими усиками, заканчивающимися вровень с уголками губ.
«Он не намного старше меня, – подумал офицер-стажер, – и у него нет наград. Это наверняка новичок».
Довольный тем, что перед встречей с опытными офицерами нашел себе товарища, с которым нечего было робеть, он непринужденно представился:
– Офицер-стажер Жан Эрбийон.
– Капитан Габриэль Тели, командир эскадрильи, – ответил молодой человек.
Он протянул руку, и Жан заметил на его рукаве три потускневшие золотые нашивки. Ему показалось, что его щеки сейчас лопнут от прилива крови, которая мгновенно окрасила его лицо, а ощущение того, что кожа пылает, еще больше усиливало его отвратительное смущение.
Позабыв о том, что на голове у него нет фуражки, он поднес пальцы ко лбу и, вытянувшись по стойке «смирно», пробормотал:
– О! Прошу прощения, капитан.
Целый вихрь мучительных мыслей закружился в его голове. Он выставил себя на посмешище; вместо благоговейного почтения, которое он теперь испытывал к этому моложавому начальнику, он продемонстрировал немыслимую фамильярность. Теперь он обречен в его глазах.
Пока Жан стоял, напряженно вытянувшись, а лоб его покрывался испариной, капитан не сводил с него своих словно позолоченных отраженным в них солнцем глаз.