До настоящих плавней от Протоки было неблизко. Еще одна станица, забитая гитлеровцами, как муравьями, лежала на самом пороге плавней последним земным пристанищем, ощетинившимся в нашу сторону дулами пулеметов и орудий. Но камыш и у Протоки обступал озерца, потихоньку превращавшиеся в болота, топорщился вокруг луж, будто плавни выслали его на степные просторы в разведку: нельзя ли тут укрепиться?
Было где солдатам нарубить камыша, орудуя своими махонькими саперными лопатками вместо топоров. А рубили его, чтобы ладить плотики: слой так, слой поперек, садись и кочуй через Протоку. Солдаты молча несли снопы, только камыш шуршал, когда его перекладывали с плеча на плечо. В воде он намокнет, потяжелеет, но, в общем, каждый плотик дотерпит до того берега, донесет одного или даже двух...
А вот миномет с собой не возьмешь, потопишь. А еще — мины. Без мин к чему эта труба? Не самовар же, в самом деле, ставить... А если подпереть камыш бочками? По две на плотик! Хотя бы четыре бочки, можно ведь и не раз сплавать туда-обратно, чтобы перевезти все минометы. Бочки! Да где они?
С этим вопросом он не вернулся к комбату, чтобы тот не погнал. Бочки здесь были в цене не меньшей, чем лодки, и педантичные немцы небось не дали маху, все бочки порубили и пожгли. Но оказалось, дали... Минометчики Колпаков и Лаврухин, покашляв в ладони, сказали, что немного, но четыре бочки найдут. Недалеко, в виноградниках, оплывших грязью, в ветхом сарае валялись корзины-плетенки, и ржавые весы, и бочки, как раз четыре. Откуда они там?
— А черт ё знает! — пожал плечами круглый Лаврухин.
Колпаков же, худенький и жилистый, выплюнув изо рта кончик самокрутки, докуренной до самых губ, улыбнулся:
— А чего ж ты в бочку из карабина пулял?
В бочках бродило вино. Прошлым летом их не успели увезти из виноградарского сарая и положить в колхозном подвале на законное место, а на вопрос, как же это фрицы не коснулись бочек, Лаврухин воздел растопыренные руки к небу:
— Так сарай плетенками завален до потолка! И грязюка!
Колпаков же, шмыгнув носом, добавил с сожалением:
— А вино смердить. Ужасть!
— Свежее, потому и протухло, — объяснил Лаврухин. — Не укрепилось на жаре.
Скисшее вино выпустили в грязь, понапрасну пробуя из каждой бочки: оно не становилось лучше. Колпаков, оказавшийся сельским плотником, починил бочку, продырявленную пулей друга, вечером Зотов доложил комбату, что готов к переправе, а ночью наша артиллерия, ненадолго озарив полнеба взблесками, придавила станичные огневые точки, и минрота, волоча свои минометы, плотики и бочки, прорвалась к Протоке.
Уже отчаливали, когда из темноты вдруг вылепилась девушка. И осветительная ракета вспыхнула будто бы в ее честь и, замерцав, повисла над головой. Все застыли, а девушку, похожую на школьницу, переодетую в гимнастерку и сапоги, это не смутило, — она, не останавливаясь, сиганула на плот, отплывший от берега.
— Куда? — вырвалось у опешившего лейтенанта Зотова.
— С вами, — неласково ответила девушка, и голос у нее оказался донельзя сиплый.
— Чей приказ?
— Мой, — ответила она.
Лаврухин торопливо растолковал, теснясь на плотике:
— Это санинструктор, пригодится. Не бойтесь!
И замолк, а Колпаков начал отталкиваться шестом. Пока еще шест из жерди, отодранной в том же сарае, доставал до дна. На случай глубины вырезали веслица из горбылей, добытых там же, — сарай догола раздели. Колпаков все живее двигал шестом, уходя из-под мерцания ракеты. Чудная санитарка, вдруг прибежала и без предупреждения — прыг! Все же полагалось бы спросить, есть тут у кого. Зотов довольно мирно пробурчал об этом, а она отозвалась так, будто голос ее поморщился:
— Заткнись! — И обратилась к Колпакову: — Кто такой?
Тут только лейтенант сообразил, что он в плащ-палатке и знаков отличия не видно, а лицо у него мальчишеское.
— Командир роты лейтенант Зотов, — представился он наспех в темноте, куда Колпаков все же задвинул плотик, а она ответила коротко, будто ей не хотелось говорить:
— Ася.
Лаврухин защитно добавил по форме:
— Санинструктор Панкова.
Посреди Протоки и состоялось их знакомство.
Но в ту минуту Зотов думал уже не о ней, а о том, как быстрей открыть минометный огонь, потому что артиллерия смолкла, как видно, исчерпав снарядный запас, и в станице снова стали оживать огневые точки. Высадились, стреляли, и комбат кричал, что возьмут станицу — и он его, Зотова, представит к ордену, но станицу не взяли, пришлось возвращаться, спасать минометы. Комбат еще перед боем повторил указание полкового начальства: «Короче, за каждый «самовар» отвечаешь головой!» После весенних боев «самоваров» в роте осталось шесть, а голова у него была одна, арифметика складывалась не в ее пользу. Батальон за одну ночь потерял едва ли не половину состава, толстые и черные пиявки комбатовских бровей осели на глаза.
Ко всему прибавилась еще беда: Ася пропала. Девочка, козявка, много ли ей надо? Она сразу же исчезла с глаз в темноте, едва пристали к берегу, занялась своим делом. Уже покидали берег, на котором не пробыли и часа, а санинструктора не было. По земле, изрываемой минами и снарядами, будто фашисты жадно расширяли Протоку, Зотов дополз до комбата, уходившего с берега последним, как капитан с тонущего корабля, и крикнул, что нет Панковой. Но капитан обругал его матом.
— Переправляйся, сопля!
Днем Ася спала в палатке комбата, свернувшись калачиком. Зотов, позванный доложить о потерях, уставился на нее. Спала Ася до зависти сладко, и лицо у нее было отрешенным от страшной ночи. Верхняя губа приподнималась, помогая дышать, и казалось, девочка улыбается. Зотов поразился. Все ему думалось, что девочка, переодетая в гимнастерку, — это случайный подарок ночи. Ан нет! Он засмотрелся, и Романенко, взрычав, напомнил:
— Я дождусь? Как у тебя?
— Потерь никаких.
— А минометы?
— В целости.
— Ах ты, Зотов, да ты ж счастливчик! — воскликнул комбат, который радовался так же легко, как и гневался.
Лишь в конце месяца, когда по распутице все же подтащили артиллерию, накопили снарядов и саперы накрыли реку сотнями плотов на привезенных бочках, немец не выдержал нового удара по станице, и Протока осталась позади.
Правда, в грязи по грудь обходных маневров не вышло. Захватили последнюю станицу перед плавнями, затолкали врага в плавни и... сами завязли в их душной глубине. До рыбацкого города Темрюка, маячившего где-то впереди, на твердом перешейке, как на мосту между плавнями и морем, пока добирались лишь птицы да самолеты...
Привыкали к небывалой войне. Пушек тут ставить было негде, да и не нужно. Пушки потеряли свою грозную силу, будто вдруг стали евнухами. Их снаряды тонули в жиже и взрывались где-то там, в вонючей прорве. Бугор пузырящейся мути вспучивался над взрывом, да изредка, чтобы тут же упасть и утонуть, вылетали грязные кусочки железа, слабые, хоть рукой лови. Поселившаяся в плавнях пехота прозвала эти снаряды «утопленниками».
Вот мины — те рвались от первого соприкосновения с водой, у них взрыватель чуткий, как спичка. Минометы стали в плавнях куда страшнее пушек, и Зотов радовался, что его «самовары» заволокли в болота. Выбрали для них более или менее твердые пятаки земли, застелили, чем удалось, короче, сотворили подкладку и стреляли. Но если без достаточной поддержки пушек сразу не одолели Протоку, то как же было перемахнуть через плавни? Их ведь не десять шагов, а десятки километров!
Иногда проводили малые вылазки, но порой и они надолго затихали, будто в войне наступал антракт. Конечно, это было дико, какой антракт может быть в войне?
Но и этим вечером не стреляли, и он слушал, как зудит комар в самом ухе, и ждал Асю. Когда он первый раз позвал ее на свидание, она, вытаращив глаза, посмотрела на него как на недоумка. А он, конечно, улыбался. Он всегда улыбался от смущения, но тут уж ничего не поделаешь.
Жизнь здесь, в плавнях, лепилась к кочкам. Люди лепились к кочкам, как комары, и тогда, на первое свидание, он тоже приволок на кочку пустой ящик от мин. Ждал, может, Ася улыбнется, но она глянула без улыбки. И села, сжавшись, то ли чтобы прочней удержаться на нетвердой подставке, то ли чтобы и ему дать место, то ли чтобы не так проникала в тело зябкая сырость сумрака. Да, лето промахнуло в этих плавнях, до последних дней...
Они сидели тогда, может быть, пять минут, может, полчаса, пока под ящиком, продавившим кочку, не чавкнуло взасос и в оранжевом луче лунного света юркий лягушонок не унес с собой что-то таинственное и простое, из детских дней. Над плавнями ночным солнцем катился оранжевый диск луны, и за каждой стеной камыша она снова отражалась в каждой луже, будто в плавнях жили тысячи лун. Ася вдруг рывком поднялась и сказала:
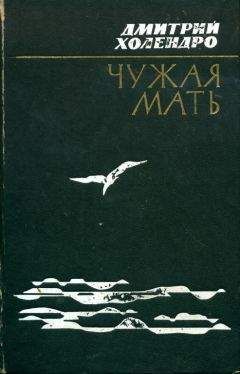

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/262305/262305.jpg)


![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149595/149595.jpg)