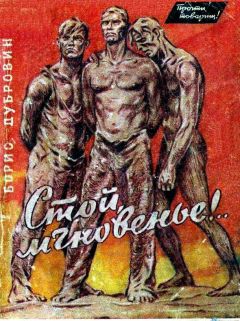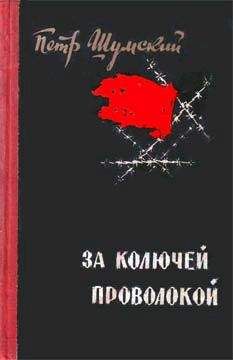Жена Лопатина прибежала с плачущим ребенком. Мать Лопатина, семидесятилетняя старушка, привела за руку его старшего сына. Жена политрука Гласова успокаивает плачущую дочь.
А пограничники уже заняли оборону по блокгаузам и на втором этаже здания. Зрачки пулеметов повернули в сторону границы.
То на одном блокгаузе, то на другом мелькают Лопатин и Гласов.
Заместитель Лопатина по строевой части лейтенант Погорелов мчится с бойцами к железнодорожному ромошскому мосту через Буг. Скорее туда, чтобы помешать противнику форсировать реку. Пятнадцать человек увел с собой Погорелов. Украинец, любивший напевать свои плавные песни. Мягкий человек. Но сколько в этом высоком и веселом человеке дерзости и отваги. Вот он первый кидается на врага. Вот он отбил крупнокалиберный пулемет, развернул его и смел гитлеровцев с моста. Фашистский пулемёт бил по фашистам.
Бил пулемет! И смерть, приготовленная нашим бойцам, настигала гитлеровцев. Нет, недаром Лопатин любил Погорелова и послал его к этому мосту. Это был уже не мост через Буг, это был мост, ведущий от жизни к смерти, от безвестности к славе. Было что-то более сильное, чем крупнокалиберные пули в этом ответном ударе.
Первый отпор лопатинцев ошеломил врагов. Им казалось, что сама земля начинает стрелять, что прорваться будет невозможно.
— Давыдов! За подкреплением! — приказал Погорелов. Патроны были на исходе.
Погорелов вырвал винтовку у первого подбежавшего гитлеровца и заработал штыком. Молча. Лицо в лицо. Глаза в глаза. Грудь в грудь. Но кто-то выстрелил сзади, и несколько ножевых немецких штыков пронзило уже мертвого лейтенанта.
Лицо Давыдова залито кровью. Он ранен. Но он пробирается на заставу. Отстреливается, отступает, но бьет и успевает уложить двух немцев. Кровь заливает глаза, но руки привычно вскидывают винтовку. И вот падает третий. «Врешь, — шепчет Давыдов, — Врешь!» И он стреляет снова.
А в это время, форсировав Западный Буг, первые гитлеровцы бросились на заставу. Пламя горящих построек опоясывало немцев багровым светом, и сами немцы с засученными рукавами, с распахнутыми на груди мундирами возникали языками пламени, которое метнулось на заставу и вот-вот стиснет ее мертвой хваткой.
Первые гитлеровцы ринулись во двор заставы, но сержант Котов короткой очередью из «максима» свалил их всех.
Так кончилась первая немецкая атака.
Но вслед за ней на блокгаузы полетели пули, снаряды и мины. Враг решил скопиться в лощине, отделявшей церковь от заставы, забросать блокгаузы гранатами и захватить здание.
Первый блокгауз разворотило снарядом.
Лощина стала серой от немецких мундиров. Начиналась вторая атака.
Раненого пограничника унесли из блокгауза, а остальные перебрались в здание и встретили атакующих огнем из окна кухни.
Но уже справа, со стороны деревни Скоморохи, выплеснулась третья атака.
Лопатин и комсомолец сержант Котов притихли у пулеметов. Стволы их «максимов» ждали атакующих.
Фашисты бежали все увереннее, они были почти убеждены, что сопротивление сломлено и что застава будет принадлежать им. Вот они уже совсем близко, скрипели под сапогами бегущих камни. Их лица, разгоряченные вином и атакой, красными пятнами всплывали перед стволами двух «максимов», и тут, не сговариваясь, коротко ударили Лопатин и Котов. Побледневшие лица запрокидывались, немцы падали, добежав почти до стен. Ни один враг не вернулся живым из этой атаки.
А на заставе приводили в порядок оружие, подтаскивали боеприпасы.
И чем ожесточенней наваливались враги, тем тверже становились лопатинцы. «Выстоим!» — говорил Дожилин, заряжая винтовку. И его серые глаза, прищуриваясь, впивались в шеренги набегавших врагов.
— Не сдадим заставу!-поддерживал Тимоньев. И в его словах звучала готовность биться до конца. Он старался держаться так же, как и командир. Он подражал своему командиру во всем.
— Живым они меня не возьмут!» — сквозь стиснутые зубы бросал Филиппов и снайперски точно бил из скорострельной винтовки. Потом в короткие секунды передышки перевязывал товарищей, оттаскивал раненых и опять хватался за винтовку.
— Убьют если, то не скоро, а уж не победят никогда, попомните мои слова. Я их так ненавижу, что жалко мне пулю мимо пустить. И страх мой пропал. Был сперва, а теперь пропал. Теперь только бы не промахнуться, — так приговаривал Фомин и, действительно, стрелял редко, но всегда попадал в цель;
И в каждом из бойцов было что-то от Лопатина и от Гласова. Точно теперь, наконец, проступили какие-то особые черты, роднящие их всех и делающие их в чем-то похожими друг на друга.
Дожилин, Тимоньев, Филиппов, Рыбков, Фомин — люди труда. Они никогда не помышляли о мести, они думали о работе после демобилизации, один токарь, другой тракторист, третий шахтер. «Все мы, как один», — сказал Фомин Гласову, когда политрук спросил их:
— Ну как, товарищи? Держимся?
— Как один! — еще раз повторил Фомин. — Я их так ненавижу, товарищ политрук, что и мертвый убью кого-нибудь из фашистов. Вот попомните мои слова!
А между тем шли минуты великой войны, и о ее масштабах на заставе не знали. Но помнили свой долг. И чувствовали, что защищают не только будущее, но и прошлое своей Родины.
Атаки длились секунды. И целая вечность проходила за эти секунды. Атаки накатывались со всех сторон. И было непонятно, как успевал политрук Гласов появиться то перед Корбовским лугом и бросить гранату, то направить свой автомат на бегущих из лощин, от церкви, то сменить раненого пулеметчика у окна второго этажа и бить короткими смертоносными очередями по наступающим от ворот и из-за дома офицерского состава. Политрук был всюду. И его появление, как и появление Лопатина, звучало призывом: «Точней! Быстрей! Смелей!» И бойцам они казались выше ростом, чем были до этого рассвета, крепче, старше, мудрее. Командиры. На них можно положиться. И на них полагались.
Эти первые часы атак равнялись годам. И когда отхлынули немцы, пограничники оглядели друг друга, как после долгой разлуки, обнаружив друг в друге что-то неожиданно новое. И они почувствовали, что хотя их несколько десятков, но они большая сила, о которую уже раскололась не одна атака врага.
Вот залитый кровью, пошатываясь, проходит по коридору Давыдов. Он ищет Лопатина. А навстречу жена Погорелова:
— Ну как там? Как муж?
При виде его окровавленного лица ее зрачки темнеют и расширяются от предчувствия чего-то непоправимого.
Из-за спины Давыдова возникает пронзительный взгляд Лопатина:
— Давыдов!
Давыдов обернулся:
— Товарищ начальник заставы, лейтенант…
— Живо на перевязку! Доложишь потом! — Лопатин уводит Давыдова, Давыдов шепотом сообщает:
— Лейтенант Погорелов… убит… Все погибли…
А жена Погорелова догоняет их:
— Как Алеша? Что с ним?
— Жив, жив. Скоро вернется… — не поднимая глаз, отвечает Лопатин и быстро уходит.
В подвале ждет маленькая дочь:
— Мама, почему папы так долго нет? Когда он придет? Мне страшно.
— Он придет… — Слышит женщина, как выговаривают ее каменеющие губы, и знает, что он теперь не придет никогда…
А на заставу уже навалилась первая черная ночь войны. Где-то восточнее мечутся в огне и умирают посевы, деревни, люди. В небе на восток тяжелые бомбардировщики тянут свой страшный груз. Справа и слева от заставы, вблизи и вдали, вгрызаются в ночь танки, орудия и грузовики с пехотой. И все — на восток и все- на наших. Эта огромная, от моря до моря, лава наступления должна была в первые же мгновения омыть, сжечь, как щепку, испепелить маленькую заставу. Но произошло чудо. Вокруг были фашисты. А застава жила.
И не только жила.
Вернулся посланный в «комендатуру в город Сокаль рядовой Перепечкин и сообщил, что Сокаль занят; это же подтвердили посланные вслед за ним и раненные в разведке Моксяков и Павлов. Лопатин принял решение: сражаться!
Приказа отступать не было. Значит, надо стоять до конца.
Что могла противопоставить врагу застава?
Два станковых пулемета, двадцать автоматов, десяток скорострельных винтовок, винтовки, ограниченный запас ручных гранат, очень скромный запас патронов. Да еще, и это было немаловажным, надежда на крепкое здание, на его толстые в метр кирпичные стены, на его сводчатый, бетонированный, ушедший в землю подвал, стены и потолок которого превышали прочность всего здания.
Питание кончалось, если не считать остатков муки, колотого гороха и капусты на дне бочки.
В воскресенье старшина Клещенко намеревался поехать в Сокаль и получить продукты на неделю. Но в воскресенье началась война.
Вода… Вода — в колодце, и уже к нему с ведром пополз Герасимов. Он, лежа на спине, накинул свой ремень на рукоятку артезианского колодца и так, лежа, рискуя каждую минуту получить пулю, накачал полведра воды и ползком вернулся в здание. К рассвету бочка из-под капусты до краев заполнилась водой.