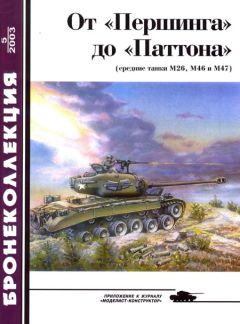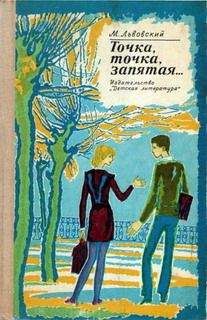Я брал его за руку, и мы выходили за калитку. Собака бежала за нами следом. Перейдя через дорогу и перепрыгнув канаву, мы останавливались у ворот Рябой, жены Боблете. Они жили напротив нас. Мы знали, что Рябая не в поле — Боблете ходил на работу с сыновьями и невестками; ее же оставляли дома готовить обед, смотреть за телятами, свиньями, гусями и сторожить сад, в котором росли мирабель и абрикосы. Все село звало жену Боблете Рябой — у нее было некрасивое, все в оспинках лицо. Но душа у нее была добрая. Если мы утром не заходили к ней, она сама звала нас в свой сад и говорила:
— А ну, поскорее собирайте мирабель, пока я свиней не выпустила.
Но в тот день, о котором мне хочется рассказать, когда мы с Никулае, как обычно, остановились возле ворот Рябой, она вышла к нам из дому и вывела нас за калитку.
— Те-е-тя Иоанэ, — как можно жалобнее проговорил я, — мама просила, чтобы ты нам мирабели дала, у нас ее в этом году совсем нет!
— Петре, — шепотом заговорила Рябая, — идите домой… да быстренько, чтоб дядя Думитру вас не заметил: он еще не выезжал в поле. Я вас после позову.
Напуганный словами Рябой, я бросился бегом через дорогу, таща за собой Никулае. Я знал, что Боблете не любил давать что-нибудь даром, и поэтому его жена боялась пускать нас в свой сад при нем. Только Пыржол в недоумении остался стоять перед воротами. Он, по обыкновению, ждал, что мы войдем во двор Боблете, бросимся в сад и, счастливые, примемся собирать опавшую мирабель.
— Пыржол! — позвал я собаку, когда добежал до нашего двора. — Иди сюда!
Я боялся, как бы Боблете не увидел собаку и не побил ее. Однажды он запустил вилами в поросенка тети Лины, когда тот пролез под плетнем и забрался к ним во двор. Как только Пыржол вернулся, я закрыл калитку и мы спрятались за забором. Мы сидели там целый час, пока наконец из ворот не выехала телега Боблете.
Не дожидаясь, пока осядет поднятая телегой пыль, мы снова подошли к дому Рябой. Она уже ждала нас. Пыржол остался у придорожной канавы, предпочитая не связываться с собаками Боблете. На этот раз Рябая повела нас на задворки под навес и усадила, чего не случалось раньше, на низенькие, круглые, с тремя ножками стулья. Потом она принесла корзиночку, полную свежей желто-красной мирабели, среди которой не было ни одной подгнившей ягоды, какие мы обычно собирали с земли.
— Это я вам приготовила, — сказала она, протягивая нам корзинку. — Они прямо с дерева!
Не веря своим глазам, я взял корзиночку, встал и потянул Никулае за рукав, собираясь уходить…
— Постойте, — вдруг остановила нас Рябая.
Мы снова сели. Никулае не мог больше ждать и начал потихоньку есть оставшуюся у него мамалыгу, время от времени таская из корзинки по одной ягодке. Когда ему попадалась очень кислая ягода, он морщился, закрывая глаза, но все же продолжал есть. Косточки он выплевывал на землю, и вскоре к нему со всего двора сбежались гусята. Рябая тем временем присела около меня и начала расспрашивать:
— Ну, Петре, что слышно о твоем отце?
— Как что? — пожал я плечами, удивленный ее вопросом. — На войне он, в России.
— А давно он вам не пишет?
— Да, давненько, — ответил я задумчиво. — С самой весны!
— Ну, а мать что говорит? — нетерпеливо спросила Рябая.
— Плачет… говорит, что, может, он погиб, как дядя Стате у тети Лины…
— А что же он писал вам в последнем письме? — допытывалась она.
Зная все отцовские письма наизусть, так как мама заставляла меня читать их раз по двадцать, я уставился глазами в землю и голосом, дрожащим от нахлынувших воспоминаний об отце, начал:
— «Дорогая Флоаре и бесценные мои детки! Я хочу, чтобы это мое письмо застало вас в самые счастливые мгновения вашей жизни…»
Дальше я не мог говорить, к горлу подкатил комок, дыхание перехватило, и я расплакался. Рябая нежно погладила меня по голове:
— Не плачь, не надо, ты же большой мальчик… Ну говори, дальше что? — спросила она ласковым голосом.
Я вдруг подумал, к чему бы это Рябая заинтересовалась тем, о чем пишет нам отец. И мне стало как-то страшно. Я поднялся, взял Никулае за руку и хотел было уйти, оставив корзинку с мирабелью, но Рябая задержала меня и отдала мне ягоды. Она проводила нас до ворот, где нас нетерпеливо поджидал Пыржол. Здесь она снова спросила меня о письме.
— «У меня разрывается сердце, — перескочил я на конец письма, — так как знаю, что у вас нечего есть и вам некому помочь. Молите бога, чтобы я вернулся… Теперь я знаю, что мне делать!»
Рябая задумалась, по лицу ее пробежала какая-то хмурая тень. Словно чего-то опасаясь, она внимательно посмотрела на наш покосившийся, готовый вот-вот рухнуть дом. Я взял за руку Никулае и незаметно ушел.
Вечером я положил оставшуюся мирабель в котелок с водой и сварил ее. Когда пришла мать, усталая, согнувшаяся от тяжелой работы на полях Франгопола, покрытая с ног до головы слоем пыли, я бросился ей навстречу:
— Мам, я оставил тебе мирабели. Я сварил ее… Нужно только положить туда мамалыги — и суп будет готов!
Мы уселись за стол на маленькой терраске и принялись уже в темноте есть суп из мирабели с холодной мамалыгой. И тут я рассказал маме, как меня расспрашивала Рябая об отце. Мама сразу же отложила ложку и испуганно повернулась ко мне.
— О чем еще спрашивала она тебя? — прошептала мама тихо.
— Только об этом, — пролепетал я. — О письме…
Мать снова взяла ложку, но вдруг положила ее на прежнее место и зарыдала. Она поднялась из-за стола и, устало волоча ноги, вошла в дом. Я тоже перестал есть и долго прислушивался к ее рыданиям, которые раздавались за дверью. Лишь маленький Никулае как ни в чем не бывало продолжал есть. Когда он наелся, я взял его на руки и полусонного понес в дом. Мама уже перестала плакать. Она неподвижно лежала на кровати, тяжело вздыхая. Увидев меня с Никулае на руках, она вздрогнула: казалось, только теперь она вспомнила о нас. Мама поднялась, положила брата к стенке и укрыла его старым, рваным одеялом. Молча, с какой-то тревогой она погладила меня по голове и прижала к груди.
— Петре, больше не ходите к Рябой!
Я снова вышел на терраску. Мама убрала со стола мамалыгу и завернула ее в полотенце, затем вымыла ложки, а суп из мирабели отдала скулившей рядом голодной собаке.
* * *
Спать мы легли как всегда все трое на одной кровати: мама с Никулае головой в одну сторону, я — в другую. Хотя я очень устал, но заснуть никак не мог: вопросы Рябой и слезы мамы не выходили у меня из головы. Я вспомнил, как мы жили до войны, когда с нами был отец. Тогда нам тоже было не сладко. Иногда мы удивлялись, как нам удавалось пережить зиму. Но в ту пору отец был дома, и это само по себе уже много значило. Мне казалось, что он самый высокий в селе и такой сильный, что мог бы одной рукой поднять всех троих Боблетов и шлепнуть их о землю. Вечером, когда отец приходил с поля помещика Франгопола, он брал меня под мышки и подбрасывал вверх до тех пор, пока у меня не начинала кружиться голова.
— Петрика, — часто говорил он мне, — учись да уходи из села: уж больно здесь горька жизнь для нас! Ни за что не оставайся здесь, слышишь?
— Не останусь! — отвечал я.
И вот проходило уже четвертое лето, как мы жили без отца. Когда его взяли на войну, я еще не поступал в школу, а Никулае только что родился. Теперь же я читал его письма и отвечал да них под диктовку всхлипывающей матери. А Никулае даже не знал, как выглядит его отец. Иногда он вспоминал об отце и со слезами на глазах спрашивал о нем. Тогда я брал его за руку и вел в дом. Там под иконой висела старая фотография отца: он был снят на ней еще в те годы, когда отбывал воинскую повинность.
Мы залезали на кровать и долго глядели на фотокарточку. Все в лице отца было нам хорошо знакомо: губы, подбородок, щеки, чуть заостренный нос, маленькие, густые, коротко подстриженные усики. Из-под мохнатых бровей на нас пристально и внимательно смотрели глубокие, немного печальные, черные, как ночь, глаза. В его глазах светилась нежность, которую в жизни он обычно стремился скрыть.
Никулае поднимался на цыпочки, дотрагивался до фотографии и отчетливо, словно заучивая слова, шептал:
— Па-па… Па-па!
Так он звал его до тех пор, пока не уставал. Видеть отца даже на фотографии было для нас большой радостью. Тогда мы еще не понимали, почему наш отец на фронте, а три сына Боблете сидят дома. Измученная горем и беспросветной нуждой, мать каждый раз, когда ее взгляд падал на фотографию отца, начинала плакать и шептать под иконой:
— О господи… господи!
Вот и теперь, засыпая, она тоже вздыхала и тихо молилась. Я знал, что, лежа на постели, она не спускает глаз с фотографии отца.
Наступившая тишина и давящая, словно свинец, темнота окутали дом. Молитвенный шепот матери слышался все тише и тише. Я почувствовал, как меня постепенно охватывает сладкий благодатный сон и забытье. Но в тот самый момент, когда меня уж совсем одолела дремота, возле дома, у завалинки, послышались легкие шаги. Я вздрогнул. Через мгновение чья-то фигура вышла из темноты, остановилась у окна и постучала в него. Мое сердце забилось от страха, и я прижался к стене. Мама встала с постели и подошла к окну, всматриваясь в темноту ночи.