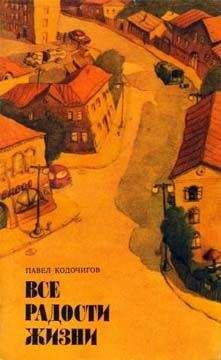В деревне никогда не стреляли домашнюю птицу из ружей — такой человек до конца жизни дурачком бы прослыл, — и стрельба по курам до того озадачила парнишку, что он на какое-то время забыл о собственной безопасности. Вспомнил о ней, когда от стены отлетела вырванная пулей длинная щепка, упала на край стола, качнулась и соскользнула на пол. Он зачем-то подобрал ее, в два прыжка заскочил на печь, натянул на себя старенький кожушок и замер, ощущая, как противный, познабливающий страх разливается по всему телу.
Предсмертное кудахтанье какой-то курицы оборвалось почти человеческим стоном. Немцы заколготили, голоса их стали удаляться, но еще не стихли, как началась стрельба во дворе соседнего дома, где одиноко жила веселая и грузная Мария, по прозвищу Пушкариха.
Гришка откинул с головы кожушок, перевел дыхание, но оказалось, что немцы ушли не все. Двое вошли в дом, что-то громко спросили. Он не отозвался. Скрипнула скамейка, с которой забирались на печь, жесткая рука схватила мальчишку за босую ногу и стащила вниз.
Один фашист, глядя на него, смеялся, второй, что стянул с печи, достал маленькую книжечку и стал медленно, запинаясь и путаясь, читать какие-то слова. Они были похожи на русские, но мальчишка не мог понять, что от него хотят. Стоял перед немцами, таращил на них глаза и молчал. Веселый немец, подмигнув ему, рывком притянул к себе, повернул и дал такого пинка, что Гришка пролетел через всю комнату в самый дальний ее угол.
Немцы нашли и забрали две буханки хлеба, корзину яиц, большой кусок сала. Сметану выпили из кринки и ушли.
Гришка потер ушибленное место, пощупал шишку на лбу и уткнулся головой в угол. Отец не бил ни его, ни сестренок. От матери доставалось. Чуть что не так, хлестала для послушания всем, что попадется под руку, от ребят тоже попадало, но никогда мальчишке не было так горько и обидно и никогда он не плакал так, как сейчас. Всхлипывая, давясь слезами, угнетаясь своей беспомощностью, он сидел на полу, а в глазах все еще стояли немцы, их глубокие и широкие каски, их черные автоматы, непривычные френчи, широкие голенища сапог, кинжалы на поясах, какие-то сумки за плечами, слышался чужой говор, смех, чавканье.
Поднялся не скоро, поддернул старенькие, давно ставшие короткими штаны, одернул синюю, выгоревшую на солнце сатиновую рубашку и, тихо ступая босыми ногами, пошел к двери. На дворе летали перья, опускались в лужи крови, застревали в них и, уже окровавленные, словно живые, трепетали на ветру.
Стрельба не смолкала — немцы продолжали выбивать кур в дальнем конце деревни.
Он выглянул на улицу. На ней, как снег, тоже кружились перья. Пригнув голову, Гришка перебежал дорогу и понесся в овраг, к матери, к людям.
Приезд фашистов в Валышево не был неожиданным — рано или поздно они должны были появиться, — однако такого разбоя не ожидали.
— Ироды какие-то, а не люди, прости меня, господи, — кричала мать. — Из двадцати курей одна серенькая осталась, и та с перебитым крылом. Скачи в район, Никифор, — наседала на председателя. — Жаловаться надо, а то сегодня кур, а завтра коров и свиней поубивают.
— Что мелешь, Мария? — тускло отвечал председатель. — Мне теперь и на тебя пожаловаться некому, не то что на немцев. Куры что, могли и нас всех на тот свет отправить. Об этом не подумала?
Мать и другие крикуньи притихли: все и на самом деле могло закончиться гораздо хуже. Деревню, слава богу, не сожгли, скот не тронули и Гришку не убили, «поджопника» только, как он говорил, дали. Одна Пушкариха стояла на своем:
— Будем в овраге сидеть, так и из домов все утащат, а при хозяевах не тронут. За свое и постоять можно. Домой надо возвращаться, Никифор. Были бы в деревне, так столько птицы не поубивали...
Председатель поскреб крепкий, поросший седыми волосами затылок и сплюнул:
— Не знаю, бабоньки, что и лучше. Все так перевернулось, что ума не приложу. К Ивановым нонче пуля влетела? Влетела. А что было бы, если бы мы все в деревне сидели?
Опять галдеж пошел. Одни приняли сторону председателя, другие, их было большинство, поддерживали Пушкариху, однако, посчитав пробоины от пуль, разглядев, сколько кровавых пятен осталось на подворьях, утром снова потащились в овраг. Кроме Гришки, никто немцев близко не видел, но все вели себя беспокойно, разговаривали едва ли не шепотом, даже самые маленькие. Они не плакали и не играли, а все время, вопросительно заглядывая в глаза, жались к матерям — состояние тревоги, ожидания чего-то непонятного и страшного передалось и им.
Второй раз фашисты приехали во время дежурства Пушкарихи.
На этот раз стрельба в деревне была недолгой. Фашисты добили оставшуюся птицу, и до оврага донеслись визг и хрюканье свиней. Забравшийся на дерево Вовка Сорокин крикнул:
— Свиней, свиней угоняют!
— И поросят!
Эта весть ошеломила. В овраге стало тихо. Шелест ветвей только слышался — мальчишки, как один, полезли на деревья.
— Повернули к Старой Руссе.
— Ушли — не видно больше! — известили сверху.
И людей будто кто кнутом подхлестнул. Побежали к домам: вдруг у кого-то остались свинья или поросеночек? Разбежались по своим хозяйствам, но скоро без зова собрались у правления колхоза. Председатель оглядел хмурые лица и подвел итог:
— Та-а-ак, чисто сработали. Мастера, так их перетак!
Женщины молчали, не зная, что сказать на это, пока старая Мотаиха, не расстававшаяся с телогрейкой и летом, не вспомнила о Пушкарихе: почему ее не видно, не забрали ли немцы и ее с собой?
— Ой, и правда, где она? — спросила мать и, не дожидаясь ответа, побежала к дому соседки.
Жена председателя Ольга Васильевна, мать Гришутки Кровушкина, Мотаиха, Савиха и другие женщины в сопровождении кучи ребятишек поспешили за ней.
Пушарихи во дворе не было. Не оказалось ее и в доме. Пока судили-рядили о том, куда она могла запропаститься, откуда-то снизу, будто из-под земли, раздался слабый голос:
— По-мо-ги-те-е! Под крыльцом я.
Видно, слышала Пушкариха, что о ней говорили, только сразу отозваться не могла, но, час от часу не легче, под крыльцо-то она зачем забралась? С трудом — за какое место ни возьмись, кричит — вытащили и заморгали: лицо — сплошной синяк и ни одного живого места на руках и на спине. Случалось, в деревне подерутся парни и даже мужики, как без этого: муж жену поколотит, если перепьет; а то и жена мужу чем-нибудь ребра пересчитает, но чтобы так избить пожилого человека? Не было такого!
По слову, а то сразу и по два, Пушкариха рассказала, что с ней произошло. Когда фашисты начали выгонять свиней со дворов и сбивать в кучу, она не захотела отдавать своего боровка, схватила палку и заступила дорогу грабителям. За это ее той же палкой да прикладами загнали под крыльцо и стали там травить, как собаку.
Мать, никогда не упускавшая случая в глаза и за глаза поругать соседку, на худой конец, поперечить ей опустилась на колени, стала гладить по голове и успокаивать:
— Ты потерпи, Мария. Мы тебя обмоем, травкой обложим, и, дай бог, поправишься скоренько, — подняла голову, увидела сына и нашла ему дело: — Беги нарви подорожника побольше, а вы, — шумнула на дочерей и других ребятишек, — марш по домам! Нечего тут глазеть! Избитую подняли, осторожно занесли в дом и по примеру матери тоже стали почему-то звать не Пушкарихой, а Марией. Обмыли раны, обложили их подорожником, перевязали. Небольшая заминка вышла, когда хотели больную оставить в доме.
— Не хочу здесь! Отнесите в овраг! — вскричала Пушкариха.
Мать вскинула голову, хотела было отчитать перекорную, но неожиданно для себя согласилась с ней:
— Дело говоришь, Мария. И мы нынче останемся в овраге, и нам здесь сна не будет.
Занятая хлопотами, об угнанных свинье и поросенке мать вспомнила лишь в овраге и отвела душу. Досталось и солдатам, и их матерям, и бабушкам вместе с прабабушками, и всей фашистской нечисти во главе с их окаянным Гитлером. Мать покричать любила, и, если на нее накатывало, остановить ее было невозможно. Тихий и молчаливый отец в таких случаях показывал матери спину.
И Гришка показал. До вечера прокупался с приятелями на Полисти. Там решили ночевать в деревне. Одни! Без родителей! Но когда дошло до дела, Вовка Сорокин сказал, что его мать не отпускает, Колька и Петька Павловы сами расхотели, а Ванька Федотов сказал Гришке, чтобы и он не ходил.
— Это почему?
— Так страшно же будет в пустой деревне!
— Договаривались же!
— Мало ли что договаривались. Мы уже передоговорились — никто не пойдет, — Ванька ехидно прищурился: — И ты — тоже. Слабо одному!
Не скажи Ванька «слабо», он бы остался, но раз так.. По оврагу шел бодро, а поднялся наверх — и шаг замедлил, даже постоял и поразглядывал улицу, будто шел не в свой, а в чужой дом. Пугали черные глазницы окон, полная темнота в деревне и во всей округе. И тишина. В доме всегда были маленькие. Они кричали и плакали по ночам, слышалось дыхание спящих, кто-нибудь ворочался, всхлипывал во сне, выходил во двор. Гришка никогда не думал, как все это важно и необходимо для душевного спокойствия. Сознание, что он один в доме, во всей деревне, угнетало, все чудилось, будто кто-то таится неподалеку, дышит, что-то замышляет против него.