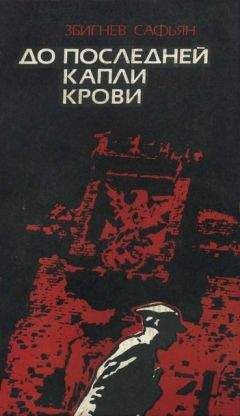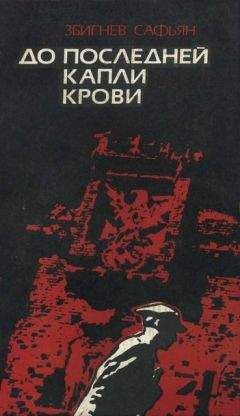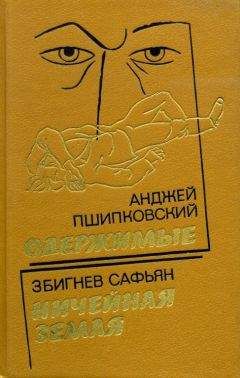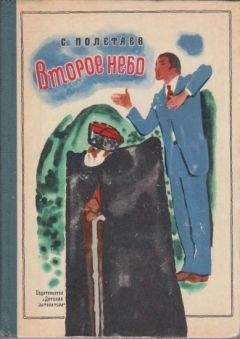Лондон нисколько не удивил его, когда он приехал в Англию после того, как Сикорский отозвал его из России. Город выглядел холодным, военно-хмурым, ту-. манным, такой и представлял он себе столицу на Темзе. Встречались знакомые поляки, как и он — бездомные изгнанники. К нему относились с любопытством, чаще всего, как ему казалось, недобрым, поскольку он по-прежнему считал, что все будут разочарованы его рассказами, что от него ожидают не хладнокровных рассуждений, а ненависти. Он собственными глазами видел лагеря, голод, смерть, а в его рассказах так мало подробностей, от которых стынет кровь, как будто он забыл о них или старался забыть. А разве можно подчинить память политическим интересам, если даже признать их наиболее важными?
Однако его материалы печатали. Назначению в редакцию «Белого орла» он был обязан Верховному. Его считали человеком Сикорского, что давало ему полную свободу действий, но это таило в себе и определенную опасность. Предупредил его об этом по пьяной лавочке старый коллега из Варшавы, ротмистр Пазьдзецкий: «Сам убедишься в этом». Рашеньский не сомневался, что Пазьдзецкий прав. В это время в «Ведомостях» появилась его статья об анахронизме мышления.
«То, что ты называешь анахронизмом, — разозлился Пазьдзецкий, — характерно как раз для всего польского. Ты идешь дальше Сикорского. Мы не стремимся к каким-то новым мировым системам, наоборот, мы рассчитываем вернуться к старому и только ради того, чтобы дождаться этого, идем на такой финт, как дружба с Советами. В этом заключается тактика, и еще не известно, насколько она хороша и эффективна».
Командировку в Соединенные Штаты Америки во время мартовского визита туда Сикорского Рашеньский расценил как награду. Может, Верховный действительно хотел поручить именно ему описать эту длительную поездку в Америку. Он пока не мог представить, какими окажутся его репортажи, как передать своеобразие Америки, находящейся в состоянии войны, но жизнь которой все еще далека от войны. Рашеньский бродил по улицам Манхэттена, разглядывал витрины, заглядывал в бары, искал следы военных невзгод, тревог, с которыми встречаешься на каждом шагу в Лондоне или Москве, и не находил их; он чувствовал себя туристом, не представлявшим себе, что в сорок втором году в какой-то точке мира можно еще заниматься туризмом.
Среди тех, кто собрался в «Принстон-клубе», чтобы увидеть и послушать Сикорского, он чувствовал себя иначе, но все равно не в своей тарелке. Лондон был, однако, его домом; он вдруг вспомнил Марту, и ему показалось, что девушка, стоявшая неподалеку с полным господином, в котором он признал сенатора, очень похожа на нее. У нее были такие же зеленоватые бегающие глаза… О том, что Марта находится в Лондоне и служит в женской вспомогательной организации, он узнал именно от Пазьдзецкого неделю спустя после своего приезда. Он не мог поверить, что через минуту увидит ее. Они расстались на варшавском вокзале двадцать пятого августа; он стоял на ступеньках вагона тронувшегося поезда, она бежала рядом и повторяла: «Это ненадолго». Обручились в Юрате шестого августа, а бракосочетание… да, бракосочетание должно было состояться двадцатого сентября. Потом он писал ей из России письма, которые до нее не доходили. Марта уехала в Лондон с отцом, инженером филиала фирмы «Филипс» в Варшаве. «Теперь он в Шотландии, — рассказывала она, — и злится на бездеятельность офицеров: все им, черт побери, не хватает рядовых».
«Я верила, — плакала Марта, — что ты жив и здоров и находишься в немецком плену, а ты, оказывается, был в России…» В его лондонской квартирке, ставшей теперь их домом, в комнате стояли узкая кровать, столик у окна и старое глубокое кресло. Сидя скорчившись в этом кресле и укрывшись двумя шинелями, она любила вспоминать, как они пробирались через Румынию и Италию, о фашисте, угощавшем ее всю ночь сицилийским вином. Как настоящий знаток, во всех деталях расписывала, что бы она приготовила на ужин, если бы… Нравится ли ему, например, грибной суп со сметаной? А зразы с гречневой кашей? А блинчики с творогом? Как только закончится война, он сможет убедиться в ее кулинарных способностях. Глаза у нее начинали блестеть, она прижималась к нему. Открывали консервы, пили чай.
Обед в «Принстон-клубе» был отменный. С уходом Сикорского обстановка как-то сразу разрядилась. Прогуливаясь по залу с чашечкой кофе, со стаканчиком виски или рюмкой коньяка, можно было услышать обрывки отдельных фраз, обменяться парой слов с людьми, которые могут фигурировать в будущем репортаже.
Рашеньский остановился неподалеку от оживленно беседовавших мужчин. Один из них, ростом пониже, был весьма самоуверенным; другой, помоложе, больше слушал, на его лице редко появлялась улыбка… Рашеньский уже видел его на пресс-конференции — подвизается в каком-то журнале польской эмиграции.
— Ну что же мне вам сказать, — говорил тот, что пониже, и видно было, что польский язык дается ему с трудом, — каждый игрок играет по-своему, без хороших карт он ничего не добьется. То выиграешь, то пасуешь, чтобы проиграть поменьше. Надо Сикорскому договариваться с Россией? Надо. Никто за него с Москвой говорить не будет, продадут его подороже.
— Ну, не совсем так, — ответил журналист, — следует поторговаться, партнеры, которые легко уступают, не ценятся.
Поблизости появился высокий пожилой мужчина в темном костюме, сидевшем на нем как военный мундир. Он одиноко прогуливался по залу.
— Генерал, — понизил голос тот, что помоложе, — хотел вернуться в армию, но Сикорский его не взял.
— Проиграл — уходи, — заявил низкий господин.
Рашеньский двинулся дальше. Офицер в форме полковника польского атташата в Вашингтоне разговаривал с видным седым мужчиной в темном костюме с пестрым галстуком.
— Верховный, — говорил полковник, — очень надеялся на сенаторов, не забывших страну своего происхождения. Поддержка польского вопроса здесь имеет огромное, может быть, решающее значение.
— Я помню об этом, — сказал сенатор, — но и вы не забывайте, что мы воюем с Японией, и никто не захочет ссориться с дядюшкой Джо, когда желтые сидят у нас на шее.
— Вы не знаете Россию, — ответил полковник.
— Только и слышишь об этом, — нехотя проворчал сенатор.
— Но ведь немцы под Москвой, а вы разговариваете с нами так, как будто русские стоят под Варшавой.
— Что это вы совсем один, Рашеньский? — спросил подошедший к нему офицер в звании капитана. Они были знакомы с Лондона. Капитан работал в секретариате Верховного и казался весьма симпатичным. — Может, познакомить вас с какой-нибудь красоткой из местных полек?
— Потом, — сказал Рашеньский. — Я хотел бы поговорить с Матушевским и сенатором Бирским…
— У вас только одно журналистское любопытство, — засмеялся капитан. — Они вам все равно ничего не скажут…
— Почему?
— Потому что, извините, это страна иллюзий.
— Не понимаю.
— Для нас, естественно. Верховный питает иллюзии, что чего-то добился. Его противники обольщаются, что Рузвельт не поддержит генерала, а тем временем польский вопрос приобретает для них здесь все большую экзотичность. Даже для польской эмиграции.
— Вы, наверное, заблуждаетесь.
— Может быть, — усмехнулся капитан. — Конечно, говорится много сентиментальных слов в адрес старушки Польши, но это не вызывает прилива добровольцев в нашу армию.
— Польские эмигранты на самом деле связаны с Польшей.
— Да, да, конечно. Но они дьявольски реалистичны, как Рашеньский.
— А это разве плохо?
Капитан не ответил, и Рашеньский перевел разговор на другую тему:
— Дорогой капитан, давно хотел спросить вас, что там случилось — с той бомбой — в самолете Верховного?
— Все это сплетни, — буркнул капитан.
— Но вы-то ведь знаете.
— Знаю. Но вы сразу об этом напишете или…
— Слово офицера, — заявил Рашеньский, — сохраню для истории.
— Ладно, — проворчал капитан. — Вы мне нравитесь. Во время полета над Атлантическим океаном в самолете Сикорского была обнаружена бомба с часовым взрывателем. Полковник Клечиньский нашел ее и обезвредил.
— Ничего себе, — проговорил Рашеньский.
— Вот именно! У генерала много врагов.
— Дело рук иностранной разведки? — спросил Рашеньский.
— Какой же вы все-таки наивный, пан Анджей… А вот и Матушевский, которого вы, кажется, искали.
Конечно, искал. Во время недавней пресс-конференции Матушевский, известный деятель польской эмиграции, резко выступил против генерала Сикорского. Он обвинил его в том, что тот скрыл правду о польско-советских отношениях. Почему ничего не говорится о польских границах, во всяком случае, о них не говорит генерал? Где советские гарантии, что границы не будут изменены? Не лежит ли в основе договора только лишь добрая воля Кремля?