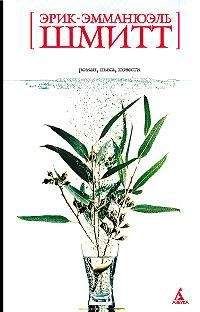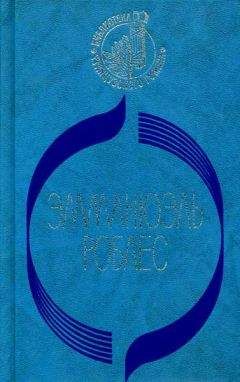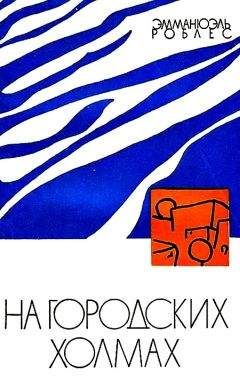— Как вы это достаете? — спросил полицейский, похожий на китайца.
— Молоко — через международный Красный Крест, а остальное — через одного женевского друга.
— Вы могли бы это доказать?
— У меня сохранились не все квитанции. Я не предполагал, что мне придется отчитываться, однако продукты получены мною вполне законным путем.
— А Марчелло Гуарди был у вас впервые?
— Я уже сказал. Он позвонил и попросил разрешения прийти.
— Как вы думаете, такие визиты еще повторятся?
— Вчера вечером, к примеру, кроме Марчелло Гуарди, у меня был офицер итальянской полиции капитан Альфредо Рителли, двое сотрудников Римского радио — Энцо Тавера и Адриано Локателли, две молодые дамы — одну из них зовут Мари Леонарди, другую — Джина Сарди, обе тоже работают на радио.
— Да, но всех этих людей вы знали раньше!
— Кроме капитана Рителли, который пришел ко мне впервые и с той же самой целью — познакомиться, посмотреть мои работы.
Он чувствовал, что говорит непринужденно и может рассчитывать на доверие.
Кошка вылезла из-за маленькой театральной ширмы и улеглась на дощечке около занавеса среди ярко раскрашенных марионеток. Полицейский окинул взглядом скульптуры, словно хотел проверить, действительно ли они заслуживают такого интереса и такого наплыва поклонников.
— У меня пока все, — сказал он и закрыл свой блокнот. Второй полицейский поставил на стол банки с молоком и пачки сахара. Измученный насморком, он непрерывно тер нос, ставший уже багровым. Филанджери вежливо проводил обоих полицейских до лифта, уверенный, что выпутался вполне благополучно.
В начале первого зашла Мари, и он слово в слово рассказал ей о небольшом допросе, который ему учинили, и о всех подробностях этого посещения. Рассказ произвел на нее неплохое впечатление, и она подумала, что происки Таверы на этом закончатся. Мари принесла Филанджери несколько картофелин. Он сварил их в молоке, и они вместе пообедали. Потом Мари зашла за ширму и взяла две сделанные самим скульптором марионетки, одну — для роли Таверы, другую — для роли Сент-Роза. «Вы грубиян!» — кричал один. «Я вам подрежу крылышки!» — вопил другой. Старик хохотал. А кошка, сидя в своей корзинке, издали поглядывала на них.
Через час после ухода Мари в дверь снова позвонили. В человеке, который стоял на площадке, закутав шею теплым кашне, Филанджери узнал Линареса, своего соседа, смуглого уродца с красными веками и блуждающим взглядом.
— Что вам угодно? — спросил Филанджери.
— Могу я побеседовать с вами кое о чем, близко вас касающемся?
— Заходите.
Войдя в мастерскую и машинально приглаживая волосы, Линарес сказал:
— Вы меня знаете, синьор Филанджери.
Филанджери было известно, что сосед, старый таможенный чиновник, в начале войны потерял жену и теперь жил на маленькую пенсию. Свое испанское имя, как говорили, он унаследовал от дедушки-латиноамериканца. Филанджери удивился его приходу, но старался этого не показать. Он частенько видел, как этот Линарес о чем-то мечтал на балконе, глядя на реку, которая виднелась из-за крыш, и непрестанно прочищал себе то уши, то ноздри длинными крючковатыми пальцами, одет он был вполне опрятно, и тем не менее во всем его облике было что-то нечистоплотное.
— Присаживайтесь, — предложил скульптор.
Сосед высматривал местечко поудобней и после некоторых колебаний выбрал диван. Филанджери знал также, что жена соседа, по которой тот носил траур, была женщина крупная и сильная, но умственно неполноценная и посему служила в доме козлом отпущения. Рассказывали, что, когда муж хотел дать ей пощечину, ему, чтобы дотянуться, приходилось прыгать, как кенгуру. Его считали человеком весьма сомнительной нравственности. Овдовев, он начал водить к себе молоденьких девчонок, с которыми знакомился в бедных кварталах.
— Чем могу служить? — спросил скульптор.
— Синьор Филанджери, — ответил сосед, — я хочу предупредить вас об одной важной вещи.
Филанджери внимательно посмотрел на гостя, и у него мелькнуло подозрение, что этот необычный визит может быть связан с приходом полицейских, но он предпочел не спешить. Кроме того, он чувствовал усталость, и его красные опухшие руки болели.
— Вы ведь знаете, что еще недавно я вел себя весьма неразумно и сделал несчастной женщину, которая была просто святой, и, конечно, не заслуживаю снисхождения.
Филанджери вспомнил ночи, когда из соседней квартиры до него доносились крики душевнобольной женщины.
— С тех пор я делаю все, что могу, чтобы загладить причиненное мною зло, но я понимаю, что никому еще не внушаю доверия. Однако я стараюсь по мере моих сил, вы меня поняли?
— Не понимаю, к чему вы клоните.
— Сейчас поймете, — ответил Линарес.
Он помолчал, ожидая, пока кошка пройдет через мастерскую.
— Кошки приносят несчастье, — доверительно сказал он. — Особенно когда перебегают вам дорогу слева направо.
— Вернемся к делу, — сказал Филанджери.
Не спуская глаз с кошки, Линарес торжественно объявил:
— Синьор Филанджери, вас скоро арестуют!
Воцарилось молчание, во время которого скульптор подумал, уж не провокация ли все это или, быть может, злая шутка, придуманная Таверой. И в то же время он чувствовал, что в голове у Линареса родилась и пышным цветом расцвела странная мысль, напоминавшая тропическую орхидею.
— Недавно, — сказал Линарес, — полиция опрашивала всех ваших соседей.
— Ну и что же?
— Они хотели узнать, приходил ли кто-нибудь из них к вам с жалобой на шум в вашей мастерской.
Снова молчание. Филанджери подумал, что, пожалуй, он слишком рано успокоился после полицейского допроса. Механизм, пущенный в ход этим тупицей Таверой, остановится не так скоро, как он предполагал.
— И это все? — спросил скульптор, скрывая тревогу.
— Еще кое-что есть, синьор.
— Слушаю вас.
— Вот что: оба полицейских спрашивали меня, часто ли к вам ходят люди. Я сказал — да.
— А дальше?
— Ну, я ведь что-то слышу через балкон. Конечно, не подслушиваю, но слышу.
— Принимать у себя людей никому не возбраняется.
— И я так думал. Но они интересовались, остается ли у вас кто-нибудь на ночлег.
— Такое случалось. По правде говоря, редко. Тем не менее бывало.
Он уже начинал беспокоиться. Глаза Линареса бегали из стороны в сторону, и скульптор догадывался, что он готовит какой-то подвох.
— Разумеется, разумеется, синьор. Но я осведомил их об одном особом случае.
— О чем же?
— О том, что кое-кого вы укрывали у себя довольно долго. Почти две недели.
— А вы в этом уверены?
— О синьор, у меня отличный слух. Зрение мое ослабело, но, благодарение богу, уши у меня безупречны.
— Предполагая нечто подобное — я подчеркиваю, только предполагая, не больше! — разве вы были обязаны сообщать об этом?
— Конечно, нет.
Стало быть, этот кретин донес, что здесь находился Бургуэн, и дело приняло новый оборот. Линарес сейчас смотрел прямо в лицо Филанджери, глаза его светились радостью при мысли, что он лишил соседа покоя. Филанджери вспомнил, что Бургуэн ни разу не выходил на балкон, но Линарес там показывался, и иногда даже было слышно, как он ворчал на кошку. Кошка действительно часто бродила взад-вперед вдоль железной решетки, разделявшей балкон на две части. Если кошка заходила на территорию соседа и Линарес это видел, то он пугал ее, громко хлопая в ладоши.
— Зачем же вы рассказывали такие вещи, даже не проверив, соответствует ли это истине?
— Да без всякой причины.
— Может, на вас оказывали давление?
— Ну что вы! Они вели себя исключительно вежливо.
— Однако вы подозреваете, что это может причинить мне серьезные неприятности? Если у вас нет веских оснований утверждать, что дело обстоит именно так, если вы лично против меня ничего не имеете и если никто вам не угрожал, то я не понимаю…
Лицо Линареса изменилось, словно ему внезапно дали пару пощечин. На щеках его выступили большие красные пятна, глаза налились слезами — казалось, он вот-вот расплачется.
— Вы правы, синьор, тысячу раз правы! Я ничтожество! Я трус! Но я не мог противостоять искушению.
— Какому искушению?
— Сообщить то, что я заметил.
— А разве так просто — донести на человека, даже не подумав о том, какими могут быть для него последствия ваших непроверенных подозрений!
— Это, конечно, верно! Все мы одинаковы, тут же уступаем. Вы меня никогда не простите?
Филанджери думал: «Они явятся еще днем». Он не испытывал к Линаресу ни злобы, ни презрения. Если бы хоть этот жалкий шут действовал ради денег или из страха. Но ведь и этого не было! Исключительно ради удовольствия нагадить!
— Меня начали мучить угрызения совести. Хотел отказаться от своих слов. Я не знал, что делать. Пошел на кладбище, чтобы у могилы моей Розалии подумать, как быть, а потом вернулся предупредить вас. Может, это умалит мою вину?