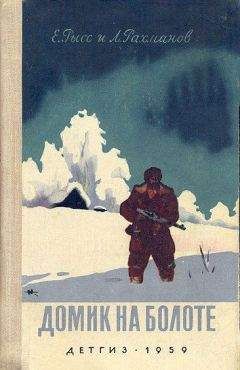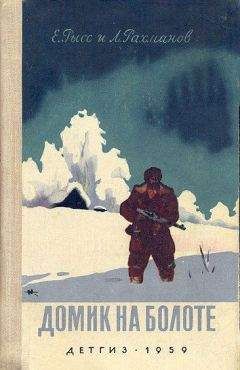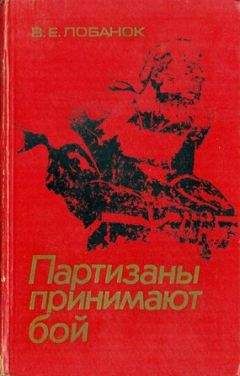Я высунулся в окно: на метр ниже подоконника кончалась завалинка. Он встал на нее, перекинул ногу через подоконник, отпер шкаф, бесшумно выпрыгнул в окно и исчез между стволами. Или, может быть, он вошел в дверь? Подошел на цыпочках к шкафу? Все это никак не меняет дела Меня убивала именно эта полная ясность, не оставлявшая надежды на то, что неожиданная мысль вдруг заново осветит события и откроет все: преступление и преступника.
Но за моей спиной, глядя на меня напряженными, ожидающими глазами, стояли люди, для которых я был последней и единственной надеждой, и я должен был продолжать делать вид, что интересуюсь подробностями.
— Вы рано встали? — спросил я Вертоградского.
— Часов в девять. Валя меня разбудила. Смотрим, Якимова нет и постель убрана. Думали, он вышел с утра погулять. Он и к завтраку не пришел. Ждали, ждали, потом Андрей Николаевич открыл шкаф, а там ни коробочки с ампулами, ни черной тетрадки…
— Как они выглядели, эти ампулы и тетрадка? — спросил я.
— В чулане вы видели точно такие же тетради и коробочки. В коробочках в вате уложены ампулы
Я достал папиросу и закурил. Нужно было протянуть хоть несколько секунд. Я напряженно думал, напряженно искал ниточки, кончика, за который можно было бы уцепиться. Но Костров не был расположен давать мне передышку. Он подошел и стал прямо против меня.
— Владимир Семенович, — сказал он, — скажите мне откровенно: есть какая-нибудь надежда вернуть вакцину?
Он смотрел на меня серьезным, прямым взглядом. Он, старый человек, требовал правды. Я ответил ему так же серьезно:
— Конечно, Андрей Николаевич, есть.
Петр Сергеевич тяжело вздохнул и заговорил голосом, немного похожим на тот, каким причитают по покойнику бабы:
— Сколько трудов, сколько хлопот! Для боя людей не хватало, а на тропинке к лаборатории каждую ночь караул ставили…
— И в эту ночь он стоял? — опросил я.
Петр Сергеевич безнадежно махнул рукой:
— То-то и дело, что нет! Отряд-то ушел, людей раз, два — и обчелся. Да и думалось: столько времени ничего такого не было, неужели в последние дни случится?
— А почему ключ от шкафа был не у вас, Андрей Николаевич? — спросил я.
Костров нахмурился.
— Ключ всегда был у Якимова, — сдержанно оказал он.
Петр Сергеевич махнул рукой:
— Как назло, все у него было в руках!
Я разговаривал, задавал вопросы и мучительно, напряженно искал зацепки. Только ниточку, только хвостик… Да, все было совершенно ясно, все было необыкновенно просто, но в самой простоте этой была какая-то странность.
— Если можно, товарищи, побудьте здесь, — сказал я. — Я посмотрю под окном. Может быть, остались какие-нибудь следы.
Я выскочил в окно и, наклонив голову, осматривая каждую травинку, прежде чем на нее ступить, стал медленно продвигаться между стволами берез.
Я смотрел очень внимательно, но, по совести говоря, не рассчитывал найти ничего важного. Мне нужно было подумать хоть несколько минут — подумать, чтобы мне не мешали.
Все было не так просто.
В самом деле, как назло, все было у Якимова: у него ключи, у него знание всей техники и существа открытия. Ему полностью и до конца доверяли. Зачем ему кража? Зачем ему эта ночная прогулка, это ожидание, пока заснет Вертоградский? Зачем красть изобретение, когда можно просто снять копию? Он хотел, чтобы у Кострова ничего не осталось? Что ж, он мог подложить такую же тетрадь, такие же с виду ампулы и днем спокойно пройти мимо постов…
Щепотка пепла лежала на черничной ветке. Ну что ж, это только доказывало, что здесь кто-то курил. Очевидно, Якимов. Уж так все ясно, так ясно! Ну хорошо, а если отбросить эту естественную версию, что может быть кроме этого? Украл Костров? Вздор. Валя? Конечно, нет. Вертоградский? А куда в таком случае делся Якимов? И к тому же украсть и остаться здесь — уж совсем бессмысленно. Просто хотел подложить профессору свинью? Необыкновенно сложный и рискованный способ. Хотел отомстить Вале? Допустим, он ее любит, а она его нет. Но Валя от кражи меньше всего страдает. Кто-то посторонний вошел и украл вакцину? Опять-таки — где Якимов?
У меня начала кружиться голова. Ни малейшего просвета не виделось мне. И тем не менее у меня улучшилось настроение. Я чувствовал, что в деле заключена сложная, трудная загадка, а если так, значит, можно ее разгадать.
Глава четвертая
Улик недостаточно. Записка Якимова
Я обошел вокруг дома и через кухню вошел в столовую. Костров, Вертоградский и Петр Сергеевич вышли навстречу мне из лаборатории. Все они смотрели на меня вопросительным, ожидающим взглядом. В обыкновенных условиях родственники и близкие, все люди, лично заинтересованные, удаляются из помещения и следователь работает один. Но здесь я не мог их никуда удалить. С другой стороны, меня невыносимо нервировало это чувство надежды и ожидания, которое я читал на их лицах.
— Андрей Николаевич, — сказал я, — у меня к вале просьба: вы бы не составили с товарищем Вертоградским… кстати, как ваше имя и отчество?
— Юрий Павлович.
— С Юрием Павловичем докладную записку, страничек пять-шесть, не больше: что у вас осталось, что нужно восстановить и сколько это займет времени.
— У меня ничего не осталось, — сказал Костров.
— Так и напишите.
— Пойдемте, Юрий Павлович, — сказал Костров,
Он стал медленно подниматься по крутой лестнице, ведущей в мезонин. Вертоградский пошел за ним. К счастью, никто из них не заметил нелепости моей просьбы. В самом деле, на кой дьявол могла понадобиться эта записка, когда и без нее все было совершенно ясно.
— Старичков, — спросила Валя, — вы поймаете Якимова?
Попробуйте ответить ей на такой вопрос!
— Если украл Якимов, — сказал я, — постараюсь его поймать.
Костров, дошедший уже до верхней ступеньки, остановился как вкопанный. Сверху он, нахмурясь, уставился на меня.
— Вы еще не уверены, что украл Якимов? — спросил Петр Сергеевич.
— Прямых улик нет, — неохотно сказал я.
На самом деле против Якимова было так много улик, что это как раз меня и раздражало и путало: точно нарочно, все обстоятельства указывали на Якимова. Но такой улики, которая бы меня окончательно и с несомненностью убедила, пока не было.
— Меня убедила бы и четверть этих улик, — сказал Петр Сергеевич.
— Но ведь все это может быть стечением обстоятельств, — сказал я, пожав плечами.
Валя смотрела на меня широко открытыми глазами:
— Я сама сначала не верила. Но кто же украл?
— Посторонних в лесу не было, — сказал Петр Сергеевич.
Я снова пожал плечами:
— Откуда мы можем знать?
Костров круто повернулся и прошел в кабинет. За ним ушел Вертоградский. Когда я сказал «если украл Якимов», старик, наверно, подумал, что сейчас я вытяну за рукав из-за двери настоящего преступника, а так как этого не произошло, решил, видимо, окончательно, что я хвастунишка, напускающий на себя важность. Мне кажется, и Петра Сергеевича разочаровала неопределенность моих слов. Видимо, он тоже потерял надежду увидеть торжественную поимку преступника. Он молча надел фуражку и вышел.
Мы остались с Валей вдвоем.
Мы помолчали, как и следует бывшим влюбленным, оставшимся наедине, потом Валя спросила:
— Как вы жили, Володя?
— Обыкновенно, — ответил я. — Ничего интересного со мной не случилось.
Я не знал, как начать разговор, и она, по-видимому, не знала. Я посмотрел на цветы, стоящие на столе, и спросил:
— Это, наверно, Якимов собирал?
— Нет, партизан один, — ответила Валя.
Еще минута, и я бы сказал, что стоит хорошая погода, и, может, она бы ответила, что, кажется, дождь собирается. Но в это время в кухне раздались тяжелые шаги и какой-то шум, точно передвигали мебель. В комнату вошел здоровенный дядя, таща три перевязанных веревкой ящика.
— Здравствуйте, — улыбаясь сказал он.
— Здравствуйте, Грибков, — сказала Валя. — Ящики принесли? Это наш плотник, — пояснила она мне.
— Принес. — Грибков скосил глаз на потолок и хитро подмигнул. — Старик на антресолях?
— На антресолях, — улыбнулась Валя.
Грибков нахмурился, лицо у него стало торжественным и официальным.
— Ну как? — спросил он, вежливо кашлянув. — Ничего?
— Ничего… Спасибо.
Грибков понимающе кивнул головой и направился к лестнице, но остановился и сказал Вале деловым тоном:
— Ящики я еловые сколотил, они полегче будут.
— Хорошо, Грибков, — сказала Валя.
Грибков стал медленно подниматься, стараясь не задевать ящиками о стены. Но посредине лестницы еще раз остановился и спросил грубым басом:
— Качаетесь?