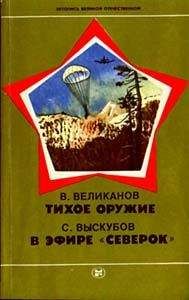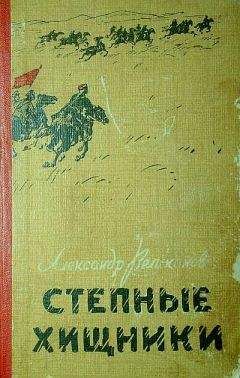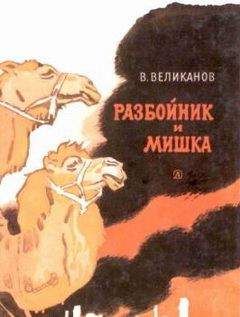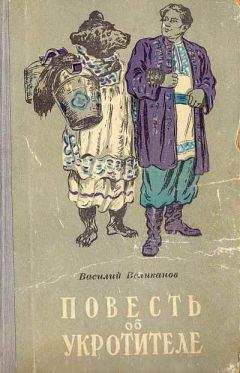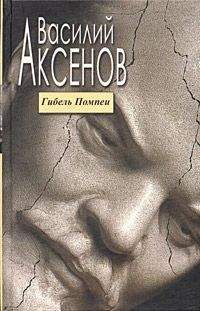Нина подбежала к каким-то зарослям. Между кустов стояла вода, почва зыбилась, пружинила. Топот ног пропал, и собаки тявкали уже в стороне: наверно, потеряли след. Ветви хлестали по лицу, царапали руки, но девушка, прижимая к боку рацию, не чувствовала боли.
Она пересекла рощицу и, когда стала приближаться к опушке, услышала справа и слева хлюпанье воды под ногами и тяжкое дыхание. Неужели враги обошли? Девушка вскинула пистолет, и тут…
— Нина! — позвал мальчишеский голос.
Слева к ней подбежал Артем, справа — «отец». Григорий Михайлович дышал тяжело, с одышкой.
— Оторвались… — говорил он через силу. — По воде собаки след не возьмут… Теперь надо поскорее пересечь «Варшавку» и держаться левее Каменки… Выйдем на партизанскую тропу… Если вновь потеряемся, Нина, иди до Красной Зорьки. Там свои…
Приблизившись к шоссе, залегли в канаве. «Отец», прикрывая рукой рот, глухо закашлял в ладонь.
По дороге неслись легковые и грузовые машины с солдатами и орудиями на прицепах.
— Нина, — сквозь удушье проговорил Григорий Михайлович, — бегите с Артемом, а я вернусь к матери… Все равно не дойду! Только вас задержу…
Но девушка схватила «отца» за руку и потянула за собой:
— Мать не тронут. Улик нет. Дойдете. Ну!
И, подчиняясь ее воле, Григорий Михайлович полез вслед за девушкой в водосточную трубу, проходившую под полотном шоссейки.
Они чувствовали, как гудела вокруг земля от грохота тяжелых машин. Выждав, когда их поток прервался, вылезли из трубы на другой стороне дороги и, пригибаясь, побежали по мокрому лугу, держа направление на партизанскую тропу.
Двадцать пять километров по бездорожью, с рацией через плечо оказались для Нины тяжелым испытанием. Но особенно тяжело пришлось «отцу»: временами он останавливался и, широко открывая рот, брался за сердце — ему недоставало воздуха. Девушка подхватывала его под руку и тащила: «Ну, ну, еще немного…»
Артем же, привыкший бегать со сверстниками, переносил форсированный марш легче.
На рассвете они достигли того места в лесу, где начиналась партизанская зона и где весной Женя по эстафете передал Нину Вере. Ох, вроде уже своя земля!
Все трое повалились на траву, под елочками, и, утирая пот, еле дышали. Нина чувствовала, что ноги у нее налиты свинцом. Так вот и лежать бы…
Но «отец» заторопил:
— Пойдемте подальше.
С трудом поднялись и медленно пошли, шаркая ногами по траве. И вдруг откуда-то громкий окрик:
— Стой!
Беглецы вздрогнули, присели за кустами, замерли. Свои или засада? Выхватив из кармана пистолет, Григорий Михайлович приглушенно сказал:
— Уходите с Артемом. Я прикрою вас.
— И я с вами… — твердо сказала Нина, сжимая в руке плоский «вальтер».
— Да это же наши! — радостно воскликнул мальчик, заметив в кустах шапку с алой полоской. Из-под нее торчал волнистый чуб.
— О-оо… — облегченно выдохнул «отец», узнав в чубатом парне Евгения. — Чего ты, шальной, так кричишь на своих? Вот влепил бы тебе…
— Не ругай, дядя Гриша, и прости, коли напугал, — легко повинился Женя и взглянул на исцарапанные ноги Нины. — Вам, я вижу, досталось… Давайте сюда!
В кустах стояла повозка, на ней сидели два партизана, вооруженные автоматами.
Усадив измученных подпольщиков на их место, Женя повез «семью» в штаб партизанской бригады. Ехали долго по неровной лесной дороге. Повозку сильно трясло, мотало, но Нина и Артем все-таки задремали. Проснулись они от того, что остановились и Женя громко крикнул: «Эй вы, сони!»
К ним уже шли, улыбаясь, двое мужчин в полувоенной форме. Вскочив с повозки, Нина бросилась к ним и заплакала: она почувствовала себя совершенно разбитой, ноги у нее дрожали.
— Ну, ну, Нина… Чего ты? Нельзя же так… — успокаивали ее. — Все ведь хорошо, что хорошо кончается!
— Не совсем еще кончилось… — тихо заметил Григорий Михайлович.
— Да, да, конечно. Пойдемте, все обсудим.
«Отца», Нину и Артема привели в просторную чистую хату. Возле печки сидела пожилая женщина, хозяйка дома, и — заметила Нина — не очень умело мастерила из парашютного шелка белье для партизан.
А партизанский бородатый кашевар тотчас налил им по полному котелку супа со свининой и попросил кушать «на здоровьице».
* * *
Отдохнув денек в спокойной обстановке, Григорий Михайлович, однако, не успокоился — его мучили мысли о семье: «Как они там? Если схватят, истерзают…» И он решил вернуться в город и даже сочинил правдоподобную, как ему казалось, версию: дескать, в дороге передумал идти к первой жене; стало жаль малых детишек; Нину отпустил к матери, а Артем где-то в дороге затерялся…
Свои мотивы он доложил Василию, утверждая, что прямых улик против него-де нет, а Катя не выдаст, в этом он был уверен. Но его как будто убедительные доводы не убедили партизанских разведчиков.
— В данном случае сердце — плохой советчик, — сказали ему, — Вы, Григорий Михайлович, принадлежите не только своей семье и можете понадобиться в другом месте.
А Василий заверил, что он обязательно вызволит из беды его жену и детей.
В штабе партизанской бригады все были взволнованы провалом Георгия. И больше всех страдал Василий, начальник дальней разведки: его бесило не то, что человек попался на контрольно-пропускном пункте — это могло случиться с кем угодно, — а то, что он выдал ценную разведчицу-связную.
Минуло два дня. И из Центра пришла радиограмма о том, чтобы Лана и его сына отправили самолетом в Москву: «отец» должен был отчитаться о деятельности своей подпольной группы.
Когда стемнело, прилетел Ли-2 и сел на полевой партизанский аэродром. Ночь была тихая, звездная, безлунная. Прислонившись к сосне, Нина смотрела на темный силуэт самолета, похожий на огромную рыбу, с крыльями-плавниками, и втайне завидовала Григорию Михайловичу и Артему: «Вот бы и мне с ними в Москву…»
«Отец» подошел к «дочке», обнял ее и поцеловал:
— Прощай, Нина. Скажи хоть теперь свое настоящее имя и где живут твои родители. Может, я их повидаю и расскажу о тебе?..
— Нет, отец, — мягко ответила девушка. — Вот уж окончится война — тогда… А родителям я написала.
Нина поцеловала Артема, и он прильнул к ней. У девушки навернулись на глаза слезы: ей стало больно от мысли, что, возможно, она с этими людьми, ставшими ей родными, никогда больше не увидится. Война большая, и кто знает, что их еще ожидает впереди!
Для Нины потянулись тягостные, в ожидании нового дела, дни. И девушка стала охотно помогать хозяйке шить белье для партизан. А та все удивлялась: «Якi я у цябе рукi залатыя… Дзе тэта ты навучылася?..»
А когда парашютный шелк кончился, Нина снова затосковала. Несколько раз она обращалась с просьбой ускорить дело, но ей говорили одно и то же: «Потерпи еще немного».
Тяготилась девушка не только бездельем. Ее мучили думы об Анне Никитичне и детишках. И хотя Василий заверял, что он через своих людей в городе принял какие-то меры, это не успокаивало Нину: ей все казалось, что они с «отцом» что-то не так сделали.
Мучительные раздумья терзали ее. Навалилась невыносимая тоска. Не зная, как от нее избавиться и чтобы хоть немного развеяться, Нина пошла на луг, сплела венок из цветов и, надев его на голову, стала бродить по травке, тихо напевая: «А в поле верба, под вербой вода»…
И вдруг увидела Женю, широко шагавшего к ней. По его деловой торопливой походке девушка поняла, что идет он неспроста.
— Чего это ты вырядилась, как русалка? Эх, хороша Маша, да не наша! — Парень даже присвистнул. — Иди, вызывают.
— Наконец-то! — вырвалось у Нины, и она сбросила венок с головы. А Женя про себя удивился: «Чему, дурочка, радуется? Опять ведь пойдет в пекло…»
* * *
На другой день разведчица-радистка в сопровождении капитана «Орленка» направилась в другой город под другим именем…
А в это время в столице, в разведуправлении Генерального штаба, Григория Михайловича и Артема встретили как своих людей. Расспросив их обо всем, что они знали, устроили в гостинице, обмундировали, придав им почти военный вид, а затем выделили сержанта, который повозил их по Москве и показал достопримечательности.
Через несколько дней отца и сына пригласили в Кремль, в Георгиевский зал, ярко освещенный огромными хрустальными люстрами. Там было много военных и партизан, одетых пестро: кто в чем прилетел из боевой зоны.
К столу подошел Михаил Иванович Калинин, и все встали, зааплодировали, а он, наклонившись вперед, тоже захлопал, улыбаясь, в ладоши. Потом каждому вручал правительственные награды и пожимал руку.
Принимая орден Отечественной войны 1-й степени от «всесоюзного старосты», Григорий Михайлович хотел было что-то сказать, но горло перехватил спазм, и на глазах появились слезы.