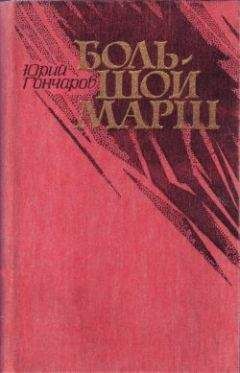Мать в горнице была уже в ватной жакетке, в платке, надевала сверху серый прорезиненный плащ.
— С Марьей Таганковой на одном возу поедете, — сказала Антонина, помогая матери оправить на себе плащ.
С улицы вбежал Сергеич — помочь вынести мешки.
— Вот это бери… это… — показала ему Антонина.
— Почему с Марьей, а ты где ж?
— Вы одни поедете, мама, а я потом, после… следом…
Нельзя мне колхоз сейчас бросить, я должна до последнего тут быть…
— Не поеду я без тебя! — решительно сказала мать. Антонина испугалась: если мать упрямилась — ничем тогда нельзя было ее взять, никакие уговоры на нее не действовали.
— Мама! — умоляюще, воскликнула Антонина. Этим восклицанием она хотела сказать сразу все: что нельзя сейчас препираться, спорить, нет времени, люди ждут, она, Антонина, не может поступить по-другому, мать это должна понять, должна согласиться с ней…
— Да что ж я без тебя буду делать, да я ж от кручины изойду вся! А как с тобой тут случится что, а ну-ка тебя немцы в плен захватят…
Сухие руки матери безвольно опускались, Антонина одна продолжала оправлять, одергивать на ней тесный плащ, просовывать пуговицы в петли.
— Не одни ж вы, мама, будете, не с чужими, все ж ведь свои… Марья за вами посмотрит, все сделает, что надо… А я догоню, догоню, завтра же догоню, может, ночью даже, а сейчас мне никак нельзя, вы ж поймите, дело на мне, еще сколько дела несделанного… Что люди скажут, если я так всё брошу, их тут брошу… Нельзя мне, мама, нельзя!..
— Так куда ж я одна-то, в белый свет!.. — запричитала мать. Голос ее зазвучал рыданием, но это был уже хороший признак: если мать начинала причитать и срывалась в рыдания, значит, она уже соглашалась, упрямство ее было кончено.
— Какой же белый свет, мама, там же всюду тоже люди, такие же, как мы… Да и недалеко, только за Дон переедем, а там, в тех колхозах нас знают, мы же с ними дружили, соревновались… Помните, оттуда к нам приезжали воронежские? Ну, вспомнили? Ну, вот, а вы — белый свет!..
Иван Сергеич вошел с улицы снова, за последними мешками.
— Пойдемте, пойдемте, мама! — торопила Антонина, подталкивая мать к порогу.
— Погоди, что ж так-то… Присядем давай хоть…
— Ну, давайте присядем, давайте… — не переча, Антонина подвинула матери табуретку. Мать руками нащупала ее, опустилась.
— И ты садись.
— И я сяду. Села уже.
Антонина опустилась на другую табуретку, напротив матери.
Внутренность дома, без фотографий на стенах, без перин и подушек на кроватях, без половины посуды на лавке возле печи, с открытой и оставленной так укладкой, откуда мать доставала одежду и дорогие ей, бережно хранимые вещицы, с которыми не хотела расстаться: клубочек пряжи, ссученной еще в детстве своем, первое свое учение ремеслу, расшитые холстинные полотенца, тоже свое первое, девичье еще, учение, ленты и бусы от свадебного своего наряда — память о торжестве, как с Антонининым отцом они в церкви венчались в молодые свои годы, — внутренность дома, никогда не смотревшаяся так опустело, так чуждо для глаз, была уже какой-то как не своей, будто уже отнятой у них, хотя они находились еще здесь. Антонина с матерью были уже изгнанниками в своем доме, лишенными на него права той злой грабительской силой, злой грабительской волей, что приближались к Гороховке и даже на расстоянии, но уже наложили на нее свою власть, уже как бы незримо владели ею. Чувство это ножом резало сердце, и хорошо, что мать не видела своей хаты, ее скорбного, горького вида внутри, а то б ей совсем тяжко стало в эту минуту.
Ей и так было тяжко. Слезы беззвучно лились у нее из мертвых глаз, капали ей на плащ, на сухие старческие руки, которыми она отирала щеки. Только в большом горе плакала она вот так — без голоса, без причитаний, совсем убито, безудержно, неутешимо. Так вот плакала она по отцу, когда случилась его смерть, когда лежал он перед колхозным правлением в дощатом гробу на двух табуретках, а кругом стоял весь местный люд, прощаясь, прежде чем нести гроб на полотенцах на деревенский погост, так вот плакала она в первый день войны, когда ее объявили, по своим деревенским и всем тем солдатам, что будут побиты на ней и чьи дети останутся сиротами, а жены вдовами, а матери — одинокими неутешными старухами…
— Мама, мама, ну, будет, будет… — тихо говорила Антонина.
— И отец твой тут родился, и ты тут родилась… — всхлипывая, сказала мать.
Слезы тоже катились у Антонины по щекам. Она морщилась, кривила лицо, стараясь их унять, стараясь не всхлипнуть, чтоб не услышала мать, а то б она разрыдалась еще пуще, и тогда б обе они разрыдались уже совсем неудержимо и надолго.
— Ничего дому не сделается, как стоял, так и будет стоять, — успокаивая мать, говорила Антонина. — Вернетесь, и так же все опять будет, и Пеструху приведем…
— Нет уж… — как бы заглядывая куда-то вперед, в то, что уже было открыто ей, незрячей, ее старыми годами, накопленной мудростью, ощущениями ее сердца, говорила горестно мать. — Так уж не будет. Не воротиться мне сюда боле. И не с отцом рядом косточки мои положат… Одного только и хотела я для себя, чтоб рядом. Не судьба, значит…
Обоз терпеливо стоял на улице — четырнадцать подвод с грузной кладью, умотанной веревками, с коровами, козами, привязанными с боков и назади каждой подводы. Повизгивали поросята, дергаясь в мешках, кудахтали куры в плетеных кошелках, просовывали свои головы сквозь прутья. Антонина просила женщин не брать мелкую живность, но как было послушаться, как кинуть? Да и в дороге — провиант. Как знать, коротка иль долга она будет, не пирогами, чай, встретят на другой земле, пол-России сейчас на восток кочует, свой запас — никогда не лишний…
Антонина как в полусне посадила мать на подводу, обняла, расцеловалась с нею. Мать крестила ее щепотью, мелкими крестиками; никогда не была она богомольной, в церковь не ходила с двадцатого года, а тут — вспомнила…
Кошка жалобно пищала на земле, у ног Антонины. Это была их кошка, грязно-серая, только с половиной хвоста, конец его она отморозила зимой.
— Гляди-ка, кошка-то как за хозяйкой убивается! — показывали друг другу в толпе, что шла с обозом провожать его.
— Понимает, значит.
— Чувствует!
— Кошку бы взяли, Петровна, места много не займет, все ж таки живая душа, вон как плачет…
Антонина схватила кошку, сунула матери в руки. Верно, своя, домашняя животина, все матери не так одиноко, пусто будет…
Обоз пошел, заскрипев вихляющимися колесами, сухим деревом тележных остовов, забренчав, зазвякав, как все уже прошедшие через Гороховку обозы, подвязанными ведерками, удилами, с лошадиным храпом и фырканьем, глухим стуком кованых копыт по убитой земле, мелкой дробной трусцой коз и овец, бегущих рядом с телегами.
Мать сидела на возу, прямо держа свое слепое лицо, ухватясь руками за грядку. Ухабистая дорога сотрясала, подбрасывала ее легкое, высохшее тело. Антонина шла рядом, быстрым шагом, не отставая, глядела на мать, и такая пронзала ее жалость, так режущ был тележный скрип, такой болью отзывался внутри, что сердце Антонины рвалось на части…
Обоз проводили до того же бугра, что и стадо.
Впереди темнело уже густо-лиловое, с синью, небо, желтыми искрами в нем прокалывались первые звезды.
Обоз скрипя, взбрякивая на выбоинах, потянулся в лиловую темь, уходя от угрюмого ворчания грома, что тяжко, чугунно погромыхивал сначала в военной стороне, а потом, хоть и глухо, но так же тяжко, увесисто, чугунно катился над головами по широкой дуге небосвода…
Когда Антонина воротилась в деревню, небо вверху мглисто серело, быстро теряя свет, на западе багровел румянец зари, и был он, как сама война, зловещ, багровый цвет казался кровью, огнем пожарищ.
Антонина спешила к правлению, но возле своего дома вспомнила — он же брошен открытым, все двери настежь, надо притворить, непорядок.
Ей не хотелось входить сейчас в дом, который, она знала, ударит ее по сердцу своей опустелостью, и она вошла, сдерживая свои чувства, чтоб не замечать, не слышать скорбной тишины, уже поселившейся в сенцах, кухне, горнице.
Но как было не услышать эту тишину, не почувствовать безжизненное оцепенение, в котором стыло все — и сам дом от половиц до верха крыши, и все оставшиеся в нем вещи, вся утварь. Так бывает только со смертью хозяина, хозяйки, когда их обиталище остается без них, сиротским, покинутым. Короткая это была минута, пока Антонина притворяла двери из сенец во двор, из сенец в дом, но нелегкая, исполненная для нее безмерной горечи, — как ни старалась она сейчас зажать в себе всё, не переживать. Тишина, оцепенение, полусвет-полумрак, наполнявшие дом, сказали ей, что мать и правда не вернется сюда уже никогда, ни к чему тут уже не прикоснутся ее руки…
Под ноги Антонине в сенцах попали грабли, — они валялись на полу, поперек прохода. Верно, свалили, когда вытаскивали вещи. Антонина подняла их, приткнула к стене.