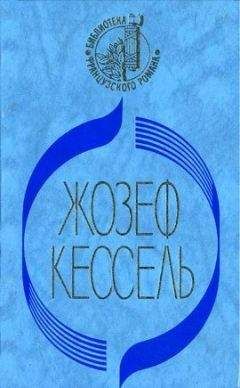– Еще, господин командир?
– С удовольствием.
Все взгляды устремились на них. Ставка равнялась восьми тысячам франков, и, казалось, что нездоровое очарование внезапного выигрыша, переменчивости фортуны, поставленной суммы поднималась от стола губительными испарениями.
– Дайте мне одну карту, – попросил Мерсье. Однако, увидев протянутого ему Нарбонном короля, он стиснул челюсти.
У лейтенанта было шесть очков и, выиграв партию, ко всеобщему изумлению, он взял карту.
«Он сошел с ума, – подумал Эрбийон, – или хочет проиграть».
Нарбонн вытянул тройку. Он еще больше увеличил свой выигрыш.
– Я должен вам восемь тысяч франков, мой дорогой, – сказал Мерсье и сделал вид, что собирается встать.
– Ах нет, господин командир, я не могу оставить вас в таком положении, – пробормотал Нарбонн. – Не хотите ли вы отыграть свой долг?
– Все или ничего! – сказал Мерсье голосом, слишком громко прозвучавшим в этой маленькой комнатушке.
«Доктор» шепнул на ухо Эрбийону:
– В крайнем случае, восемь тысяч франков он смог бы отдать, но шестнадцать – никогда.
– Но ведь он же обязан выиграть, – прошептал стажер. – Это чистая математика.
На этот раз пальцы Мерсье, когда он брал карты, слегка дрожали. Он набрал восемь очков. Нарбонн – девять.
Смущение было настолько сильным, что молодые люди даже опустили головы, чтобы не видеть лица командира. Не делая паузы, Мерсье сказал:
– Ва-банк тридцатью двумя тысячами.
Нарбонн, даже если бы захотел, не смог бы уклониться. Он снова выиграл.
Три раза подряд Мерсье удваивал ставки и проигрывал. Всем казалось, что он падает в пропасть.
То, что Нарбонн продолжал принимать ставки, было очевидной уступкой подчиненного начальнику. Причем никто не мог сказать, кем сложившаяся ситуация переживалась более мучительно: командиром, который, вопреки всем правилам, ее принимал, или же лейтенантом, который ради проигрыша даже готов был пойти на шулерство, если бы был уверен, что его никто не поймает.
Тем не менее приходилось продолжать.
Мерсье больше не произносил: «Ва-банк!» Нарбонн не спрашивал его даже взглядом. Все сводилось к тому, что он раздавал карты, смотрел на них, бессмысленно тянул новые карты и выигрывал.
А выигрывал он все время, преследуемый каким-то проклятым везением, упорством карт, ложившихся в таком порядке, чтобы преимущество оказывалось на его стороне. Это был вызов, брошенный любым подсчетам, любым вероятностям, любому правдоподобию, и казалось, что так будет продолжаться всю ночь.
Наконец, после девятнадцатой раздачи, Нарбонн проиграл.
Мерсье поднялся и вышел, не проронив ни слова, не прикоснувшись к раскиданным по столу деньгам, которые, строго говоря, принадлежали ему.
Никто ни единым словом или жестом его не остановил.
Утром того же дня в эскадрилье стало известно, что начальник сектора, решив испытать новый мотор, разбился при вылете. А товарищи, боясь выдать свои мысли, собравшись в столовой, произнесли:
– Еще одна жертва скорости.
Когда они опять собрались у Нарбонна, то разговаривали приглушенными голосами, редко роняя слова, но игра пошла яростная. Казалось, что происшествие с Мерсье вместо того, чтобы послужить предостережением, только разожгло страсти. Суммы, разыгранные накануне за этим самым столом, оставили на нем след какого-то очарования. Из-за этого понятие об их реальном значении исказилось. Ожесточившиеся лица, короткие фразы выдавали примитивное стремление к победе, заставлявшее позабыть этих людей, связанных столькими узами, об их дружбе. Они производили впечатление людей, за которыми своими тусклыми зенками наблюдает смерть. Нарбонна, относительно безразлично отнесшегося к собственному везению, иногда, когда он бросал взгляд на своих товарищей, пробирал ужас.
Эрбийон же, более остальных чувствительный к этому странному воздействию, исходившему от погибшего, веривший, что, держа в руках карты, сжимает саму суть своей подверженной случайностям жизни, по безрассудной храбрости опередил всех присутствовавших.
Вернувшись в свою комнату, цветочки на стенах которой уже различались, он кинулся на кровать, даже не сняв сапог, в надежде уснуть, чтобы обо всем позабыть. Он проиграл под честное слово восемь тысяч франков. Однако сон никак не приходил.
Кровавые черви, плоские бубны, крапчатые трефы, пики, целящиеся куда-то своими мрачными верхушками, бесстрастные и таинственные лица королей, валетов и дам проплывали перед его горящими веками, гудящим лбом проклятой вереницей, заколдованным кругом.
Отказавшись от борьбы с этим наваждением, молодой человек подошел к окну, распахнутому навстречу летнему рассвету. От сада волнами поднимался перченый запах гвоздик. На горизонте темное небо подтачивалось розовой полосой. Перед пробуждением девственного утра Эрбийон почувствовал себя ничтожным и грязным.
Смерть Мерсье привлекла к вечерам у Нарбонна внимание всей эскадрильи, и Клоду не составило ни малейшего труда угадать причину растерянного выражения лица Эрбийона. К нежности, которую он по-прежнему испытывал к молодому человеку, добавилось чувство ответственности. Разве не поручил ему капитан моральную заботу о товарищах?
Он взял стажера за руку, и этот жест вызвал в Жане прилив благодарности. В этот день ему так нужны были помощь и поддержка! А образ Денизы словно бы померк перед ощущением обрушившегося на него несчастья.
Они молча добрели до обширного парка, в котором жар и солнечный свет колыхались слабыми волнами.
– Вы много проиграли? – по доброму спросил Мори.
– Слишком много!
– Нет причины отчаиваться. Вы молоды, ничем не заняты… – Затем тоном, лишавшим его замечание какого бы то ни было упрека, добавил: – И считаете, что вам дозволено все, потому что смерть для вас является ближайшим будущим.
Его слова подействовали на Эрбийона, как бальзам на рану. Они дарили ему прощение, на которое, как ему казалось, он больше не мог рассчитывать, ибо выжал его до последней капли. Он с горечью подумал о том, что именно это самопрощение в последний раз толкнуло его в объятия жены того, кто теперь его утешал.
Ослабев от тревоги, бессонниц, он прошептал:
– Ах! Если бы только мы остались прежними, я бы не зашел так далеко.
Волнение, так хорошо знакомое стажеру, озарило взгляд Мори.
– Жан, – сказал он, – ничто на земле не умирает безвозвратно. А пока пообещайте мне, что больше не пойдете к Нарбонну.
Он произнес это с таким уважением, что на мгновение молодому человеку показалось, будто бы дружба готова возродиться.
– Позвольте мне отыграться, – воскликнул он, – и я клянусь вам, что больше не буду играть!
– Лучше воздержитесь.
– Не могу. Я слишком много должен.
– Сколько?
– Восемь тысяч, – ответил Жан тихо.
– Послушайте, – сказал Клод решительно. – Я их вам одолжу. Постепенно вы мне все вернете.
Внезапно он побледнел. Грубым, бессознательным движением Эрбийон оттолкнул его. Отвращение, заставившее молодого человека криком заявить о своем несогласии, вновь пробудило в Мори еще более резкое и более определенное беспокойство, которое, как он успел поверить, исчезло навсегда.
В витрине кафе у почты, на главной площади, висело большое объявление. На нем огромными и нескладными буквами было написано, что отныне оно находится во владении «Мадемуазель Памелы из Казино Сент-Мартен».
Эта девица оказалась высокой, грубоватой, но довольно красивой, с густыми, медного оттенка волосами, прекрасной кожей и губами, похожими на губы дикого животного. Она без устали пела томные романсы и игривые куплеты, много пила, а выпивать заставляла и того больше.
Именно туда Марбо потащил Эрбийона на следующий вечер.
С самого порога кабаре все: и шум, и густой табачный дым, и горящие животным восторгом лица – все показалось стажеру отвратительным.
– Что это с тобой?
– Ты же видишь, здесь нет свободного места, – ответил Эрбийон.
– Нет места! – воскликнул Марбо, – я бы удивился, если бы для стариков из 39-й эскадрильи не нашлось места! Хозяйка!
Его мощный голос, перекрыв шум, привлек внимание Памелы, приготовившейся петь. Она медленно сдвинула свои густые брови так, что они почти сомкнулись. Успех развил в ней склонность к нетерпеливости и властности. Мужчины даже таких габаритов, как Марбо, были ей не указ.
Ругательство уже готово было сорваться с ее массивных губ, как вдруг она заметила взгляд Эрбийона. Он был таким красивым и таким печальным (той чувственной печалью, которая всегда действует на женщин), что Памела передумала и спустилась с нескладных подмостков, служивших ей сценой.
– Не засиживайтесь, если пьете одно только красное вино, – заявила она двум сержантам-артиллеристам. – Освободите столик.
– Но мы хотим послушать, – возразил один из них.
– Меня прекрасно слышно и стоя.