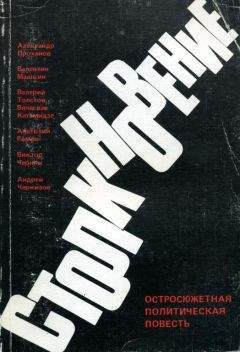Комбат не спешил к Седыху, надеясь на работу пары двухствольных установок, стреляющих с открытой платформы, поддерживая батарею, уже бросавшую через вершины свои жгучие упругие взрывы. У него, у комбата, была другая задача — встретить и проводить тяжелую «нитку» с армейскими грузами, еще только начинавшую свой спуск от туннеля. Он озабоченно поглядывал в небо, ожидая появления «вертушек». Вести такую колонну в сопровождении вертолетной пары было спокойней. Он все медлил, тянул, поглядывая в небо и на близкую рыжую гору, за которой притаилось нечто, с чем вступил в незримую связь.
На трассе жужжащий, как жук, возник «джип». Затормозил перед воротами. Надир, уездный секретарь, оставив в машине вооруженных, ощетинившихся автоматами спутников, подбегал к комбату, прихрамывая, — болела рана на ноге, прижимая руку к груди, — болела рана под ребрами. Еще издали говорил, вращая возбужденно белками:
— Там ущелье Ливан душманы идут! Пулемет несут! Базука несут! Надо брать душман с двух сторон! Мои люди прямо пойдут, в ущелье. Твои солдаты сзади пойдут, по тропе. Вот так их взять! — Он развел и сжал руки, ударил ладонью в ладонь. Сморщился от боли — удар проник в перебитые ребра. — Сейчас идти надо! Душманы ущелье пройдут, на горы сядут! Будут бить «наливники»! Давай солдат!
— Нету солдат, Надир! — Майор оглядывал пустой двор заставы. — Ушли с резервной группой.
— Надо быстро солдат! Душманы подойдут, сядут на горы. Тогда их брать нельзя! Они пулемет ставят, будут колонну бить! — Надир вращал выпуклыми белками с лопнувшим красным сосудом. Дирижер оркестра слушал их разговор, что-то пытался сказать. Волнуясь, блестел очками.
— Я с тобой пойти не могу, Надир. Своих людей дать не могу! — сказал комбат. — Иду наверх колонну встречать.
— Гафур-хан выйдет, нас сверху бить будет! — сокрушался Надир. Казалось, кровь заливает ему глаза, натекает из лопнувшего сосуда.
— Глушков!.. Я пойду! Оркестр пойдет! — Дирижер, волнуясь, боясь, что ему откажут, схватил за рукав майора. — Мы пойдем! Пусть покажет, куда!
Его полное лицо было потным. Близорукие глаза часто мигали. Он то и дело поправлял очки. Боялся, что ему откажут, отделаются от него насмешкой.
— Слышишь, Глушков, я пойду!
Но комбат и не думал отказывать. Было не до насмешек.
— Хорошо, пойдешь!.. Бери фургон военторга. Других колес нету!.. Надир, с ним садись, их поведешь! Возьмите их в клещи! Только по тропам не шастайте, на мины напоретесь!.. Склоны, склоны трассируйте. Вперед!
Майор Файко, поправляя очки, бежал к своим музыкантам. Командовал. Те выскакивали из-под навеса, оставляя лежать медные свитки труб. Хватали автоматы. Заводили грузовик военторга. Продавщица безропотно принимала от них какие-то ящики, свертки. Файко и Надир тесно вдавились в кабину рядом с шофером. И две машины — фургон и открытый «джип», переполненный вооруженными, в чалмах и повязках афганцами, ушли от поста к соседнему ущелью, где отряд душманов менял боевую позицию. Шел на соседние горы. Готовил по колонне удар.
— Ну, Кудинов, настраивай свою флейту! — сказал комбат. — Соло на пулемете с оркестром!.. Нерода, трогай вперед, — и мимо растерянной, растрепанной продавщицы, мимо ее красивого испуганного лица вышли на трассу.
Мчались по бетонке, огибая рыжую гору. У подножия, зацепившись за осыпь, качались пустынные, горчичного цвета кусты. С песчаного откоса летели желтые космы жара. Казалось, что воздух желтый, и броня «бэтээра» желтая, и лица под касками желтые. Из горы бьет и светит огромный иссушающий желтый поток.
Из этого едкого горчичного света одиноко и тихо ударил выстрел. Из песка, из осыпи, из безлюдного жара. Будто выстрелила сама гора. Сидевший сзади Евдокимов молча стал падать. Ткнулся лицом в спину комбата. Майор, оглянувшись, увидел Зульфиязова, ухватившего падающий с брони автомат, открытые и уже невидящие глаза Евдокимова, его выцветающее, выгорающее лицо, гора выпивала его живые краски, наполняла бесцветным жаром. Увидел отлетающую рыжую гору, и короткая мысль: его предчувствие оправдалось. Гора стреляла в него. Но промахнулась. И пуля попала в другого.
— Пулеметчик! — гаркнул он. — Огонь!
Они продолжали движение. Пулемет бил по отлетающей песчаной горе, слепо искал на ней снайпера. Солдаты, Зульфиязов, Салаев, уложив на броне Евдокимова, между люками, ногами к корме, срывали с него бронежилет, разрезали рубаху, обнажали белую, незагорелую грудь и разорванное пулей плечо, в котором белело, краснело и брызгало. Молодое, растерзанное тяжелой пулей тело.
— Евдокимов… Дока! Дока! Ты что? — Салаев вкалывал шприц с обезболивающим раствором, разрывал индпакет, крутил на плече жгуты, пачкался кровью, торопился, бормотал: — Дока, Дока, ты что?..
Комбат не привык к близкому виду крови. Отворачивался от ее дурманящей силы. Сгибался, сжимался, искал себе место между красной брызжущей раной и стучащим вороненым стволом.
— Шок снимите! Болевой шок снимите! — Он схватил Евдокимова за хрупкий побелевший подбородок и стал бить его по щекам крепко, плоско своей перепачканной тяжелой ладонью, по опавшим пожелтевшим щекам, вталкивая в них обратно жизнь, цвет, боль. — Шок болевой!
Он знал эту смерть от шока, когда сердце не выдерживало резкого от боли и ужаса торможения. Останавливалось. Неопасная рана оказывалась причиной смерти. Он бил и бил по щекам Евдокимова, пока тот не вздохнул, не дрогнул веками. Открыл глаза, разлепил слабо губы:
— За что, товарищ майор?..
А у Глушкова такое облегчение, такое знание о нем, Евдокимове, о своем с ним родстве, о тождестве их жизней. Вера, что солдат не погибнет, «сынок» не умрет. И уже не бил, а гладил, ласкал, прижимал к его лбу свой лоб под танковым шлемом:
— Вот и хорошо! Вот и ладно! Все теперь будет нормально!.. Под броню его, осторожней!
Солдаты опустили Евдокимова в люк. Санинструктор Салаев в полумраке, среди бьющего из бойниц солнца, бинтовал его. Евдокимов забывался, что-то бормотал, выговаривал. «Бэтээр» катил по бетонке, стуча по горам пулеметом.
Они встретили колонну со взрывчаткой. Мерно, пузырясь брезентом, шли грузовики. Два вертолета в рокоте повторяли движение колонны. Обгоняли ее, возвращались, облетали окрестные горы. Группа охранения, разделившись надвое, в голове и в хвосте колонны, развела пулеметы в стороны, обрабатывала огнем вершины. Орудие на платформе вело стволами, воспроизводило очертания гор. Вся длинная гибкая вереница, дымя и стуча, катила вниз по Салангу.
Солдаты перенесли в грузовик забинтованного Евдокимова, отправили в медбат. Комбат провел колонну к месту, где сражался Седых. Бой был окончен… Предыдущая «нитка» ушла, оставив у обочины два курящихся разбитых прицепа. В одном, оплавленное, спекшееся, лежало оконное стекло. Верхние кромки листов стекли и согнулись. В другом дымили, капали черной смолой мешки с сахаром. Бетон был усыпан мукой и сахарным песком. Машины шли, как по снегу, пробивая черные ребристые колеи.
Они соединились с группой Седых, вернулись на пост. Почти одновременно с ними подкатили фургон военторга и маленький юркий «джип».
Музыканты выпрыгивали на землю, шумные, возбужденные. Не расставались с автоматами. Надир и Файко были вместе, улыбались, похлопывали по плечам друг друга. Из фургона спрыгивали на землю, затравленно озирались и тут же садились на корточки пленные душманы. Четверо пленных, смуглых, худых, плохо выбритых, в линялых, блеклых одеждах, в растрепанных, плохо державшихся чалмах. Один из них, раненный в руку, лег на землю и тихо стонал, протянув вдоль тела липкий, полный крови рукав.
— Глушков, мы их взяли в кольцо! — говорил дирижер. — В кольцо их взяли!.. Смотрю, идут! Цепочкой, след в след!.. Я говорю: не стрелять! Пусть втянутся глубже в ущелье!
Надир нависал над пленными, блестел своими красными вращающимися белками. О чем-то грозно их спрашивал. От его слов они сжимались, ниже склоняли головы, худые, изнуренные, оглушенные стрельбой. Раненый тихо стонал.
— Умрет от потери крови, товарищ майор, — сказал санинструктор Салаев. — Разрешите перевязать!
— Перевязывай.
Салаев открыл свою сумку, достал жгуты и бинты и быстрыми осторожными движениями стал бинтовать басмача. Тот косил на него своими умоляющими глазами, что-то бормотал.
Солдаты резервной группы, обсыпанные мукой, потные, утомленные, столпились вокруг продавщицы. Торопливая, ловкая, она открывала бутылки с водой, мелькала отлетающими пробками, протягивала солдатам:
— Пейте, миленькие, пейте бесплатно!.. Попейте, попейте водички!
…Он не мог до конца понять, что это было. Что с ним случилось в маленьком сквере у Шаболовки между Донским монастырем и Шуховской башней. С годами случившееся меняло свои очертания, становилось мифом. Он дорожил этим мифом. Размышлял над ним. Лишал его чудесного смысла. К тому дню, к той минуте его растущая молодая душа накопила в себе столько сил, столько упований на счастье, что им стало тесно в груди. Они вырвались из телесного плена. Его прежняя жизнь — предчувствие женской любви, нежность к милым и близким, родная природа, Москва — сошлась на мгновение в огненный фокус. Пройдя сквозь него, вырываясь по другую сторону фокуса снопом расходящейся жизни, он унес в нее, размывая, чье-то огненное, открывшееся в точке лицо.