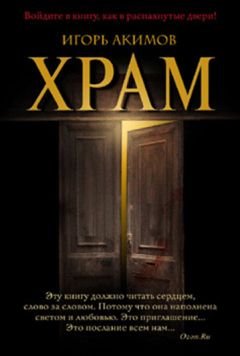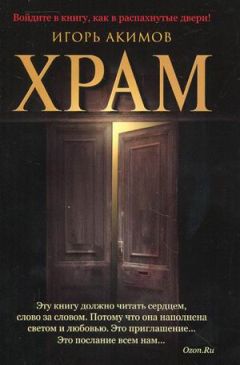– Согласитесь, что все сходится.
– Я – шпион… О господи, только этого не доставало!
– Вам больше нечего сообщить? – Капитан Сад вернулся на место и сделал Харитончуку знак рукой.
– Обождите! Я вел себя резковато. Возможно, вызывающе. Возможно, оскорбил вас. Если дело только в этом, я готов принести извинения.
Капитан Сад улыбнулся.
– Очень мило, граф, – сказал Алексей Иннокентьевич. – Но недостаточно.
– Хорошо. Я обещаю рассказать все, ответить на любые вопросы, но не сейчас. Давайте условимся так: вы отпускаете меня, а я сообщаю вам расположение разведшколы. Вы ее ищете, не так ли? Но дайте мне сутки, чтобы я успел выполнить то, ради чего сюда приехал, поскольку в этом сейчас вся моя жизнь, – и ровно через двадцать четыре часа я отдаю себя в ваши руки.
– Прекрасно сказано. В лучших рыцарских традициях.
– Вы смеетесь надо мной.
– Нисколько. Но меня изумляет ваш темперамент. Если не ошибаюсь, нордическая…
– Я из Лотарингии, – перебил граф Алексея Иннокентьевича. – Это французская Германия, да, на карте! Но здесь, – он ткнул пальцем в свою грудь, – мы и не французы и не германцы. Мы – лотарингцы!
– Тем более мы надеемся услышать от вас правду.
– Но я не могу рассказать ее вам!
Капитан Сад посмотрел на часы.
– Даю три минуты, это в последний раз.
Граф с тоской поглядел вокруг. Черный лес не оставлял надежды. И усталые лица русских – тоже.
– Спрашивайте.
– Где вы служите?
– Летчик. Но это в прошлом. С этим покончено навсегда.
– Вы хотите сказать, что дезертировали?
– Фактически – да. Я уже давно искал повода, чтобы выйти из этой безумной игры. В апреле удалось. Меня сбили под Чистерна-ди-Рома. Проклятые янки! Мне ни разу не пришлось сразиться с ними один на один – всегда налетали кучей, сразу со всех сторон. Другое дело англичане. Я имел поединки с ними над Тобруком и Эль-Аламейном. Это были джентльменские схватки, уверяю вас, хотя «харрикейн» почти непригоден для такого боя.
– Выходит, вы ветеран африканской кампании?
– Я попал к Роммелю прямо из училища. Там была честная война. Мы и понятия не имели, что творится на материке. Мы бы победили и англичан и пустыню, но нас предали в Риме, а потом фортуна отвернулась от фельдмаршала.
– Ну да. А потом на ваших глазах были потеряны Африка, Сицилия, Южная Италия… Выходит, все дело в военных неудачах?
– Нет! Я стал иначе думать. У меня переменились убеждения.
– Ах, даже так!.. Представляю, чего это стоит: отказаться от веры, от идола, которому поклонялся много лет.
– Вы иронизируете надо мной, – устало сказал Райнер. – Возможно, вы правы. И я заслуживаю только иронии… Тем более, что все произошло иначе – в одну ночь. В одну минуту! И совсем без боли, без мук… Правда, я никогда не был нацистом. – Он помолчал. – Это случилось в октябре прошлого года. Как раз мы оставили Неаполь. Я перегнал свою машину на новый аэродром, под Субиано, это километрах в двадцати восточнее Альбанских гор. Одно название, что аэродром: посадка на него была опаснее воздушного боя, – и получил недельный отпуск: надо было выполнить кучу формальностей в связи с наследством.
– Как же вас отпустили?
– Фельдмаршал Кессельринг. Он не нашего круга, но вовсе не парвеню и человек порядочный. Он всегда был внимателен ко мне.
– К младшему офицеру?
– Погоны – это все, когда вы командуете ротой на плацу. Но они не прибавляют ни ума, ни культуры. И душа человека, как известно, живет не под погоном. – При этом он кивнул Алексею Иннокентьевичу: намек на его солдатскую форму. – Дома меня ждало серьезное испытание, – продолжал он. – Дело в том, что я рос без отца. Считалось, что он погиб от несчастного случая на охоте. Это было в тридцать третьем году, я был совсем несмышленыш. Меня сразу отдали в закрытый лицей, и я никогда по-настоящему не интересовался, что же произошло. И только в этот приезд, когда я вошел во владение наследством, нотариус передал мне прощальное письмо отца. – У графа набрякли губы, и он как-то нелепо и беспомощно схватил пустоту своими огромными ручищами, потом сжал их в кулаки. – Он был большой человек в государстве. К тому времени, когда к власти пришли наци, он имел не только известное имя, но и незапятнанную репутацию. Не знаю почему, он отказался сотрудничать с Гитлером и сделал это демонстративно. Тогда на него науськали газеты. Было сфабриковано нелепое, постыдное дело. Все факты, все документы – сплошь фальсификация. Но им было мало сделать отца политическим мертвецом. Ему публично было нанесено оскорбление, а когда он потребовал сатисфакции… – Граф безнадежно махнул рукой. Он тяжело дышал, но сидел смирно. Прошло не меньше минуты, прежде чем он смог говорить дальше: – Вот что я узнал в октябре… Отец заклинал меня никогда не быть заодно с его убийцами – нацистами. Отец завещал смыть позор с нашего имени. Этого я не мог в одиннадцать лет, но сейчас мне двадцать один, и я нашел эту змею – Уго фон Хальдорфа! – закричал граф и показал рукой в ту сторону, где за деревьями и лугом был замок. – Это от вас зависит, господа. Я не прошу у вас ни помощи, ни пощады. Только снисхождения прошу, господа! Дайте мне одни сутки, только сутки! Этого мне будет довольно, а потом я вернусь к вам – и делайте со мной, что хотите, раз уж вам непременно нужна именно моя жизнь…
– Успокойтесь, Райнер, – сказал Алексей Иннокентьевич и повернулся к капитану. – По-моему, сыграно неплохо. – Он достал из верхнего кармана своего мундира мятую пачку немецких сигарет. – Прошу.
– Благодарю вас. Не курю, – сказал Райнер.
– Помогите кое-что уточнить. Как я понял, из этого отпуска вы уже не возвратились на фронт? – Алексей Иннокентьевич спрашивал механически: смутная мысль не давала ему покоя, как использовать графа для выхода через него на людей, стоящих в Германии у власти. Вот для чего он был бы им нужен, если бы они уже выполнили свое задание.
– Как же! – возвратился. – Граф был чистосердечен и даже не заметил, что обошел маленькую западню. – В отпуске я был неделю. Этого оказалось мало, чтоб найти проклятого барона, но достаточно, чтобы принять решение о выходе из игры. Видите ли, – уже совсем спокойно объяснил он, – если б я оставался в армии, многое осложнялось бы уставом и теми самыми погонами, армейской иерархией. Фон Хальдорф вполне мог толкнуть меня под военный трибунал. По нынешним временам – безрадостная перспектива.
– И вы продолжали воевать…
– Да, еще почти всю зиму. Мы прикрывали десятую армию, и мне чертовски везло. В один только день, пятнадцатого февраля, когда эти варвары бомбили знаменитый Кассинский монастырь, я сам сбил три «боинга». Но их были сотни, и, когда нас осталось меньше эскадрильи, нас перебросили на север, и мы стояли почти без укрытия на каком-то дурацком лугу на полдороге между Римом и Чивита-Кастеллана. Однажды меня послали на разведку в район Неттунии, и все было подозрительно спокойно. Мне дали сфотографировать порт, но уйти морем не позволили – там стоял авианосец. Я чувствовал, что на обратном пути меня встретят, и бросился в другом направлении – к запасному аэродрому в долине Сакко. Не помогло. Их была целая эскадрилья. Я выбросился над нашими позициями в Чистернади-Рома, и обе раны оказались пустяковыми, но контузия была настоящая. Хороший повод. Милый Кессельринг был на высоте, выпустил меня вчистую.
– Где ваша справка о непригодности?
– С собой не ношу. Военная жандармерия проучила два месяца назад – порвали справку у меня на глазах. Патриотический пыл, видите ли. Получить копию было не легче, чем оригинал.
– Следовательно, опять только слова, – констатировал Малахов. – Предположим все же, что вы рассказали правду. Скажите, граф, если не секрет: что вы собирались делать дальше, после того, как отомстите фон Хальдорфу?
– Я бы уехал в Швейцарию. Разводил бы цветы, собирал марки. – Он улыбнулся приятному воспоминанию. – У меня прекрасная коллекция на вилле в Люцерне.
– И так всю жизнь?
– Надеюсь.
Капитан Сад, который решил, что его участие в допросе не понадобится, и временами даже стал подремывать, сейчас вздрогнул, выпрямился и глядел на графа во все глаза. Капитан вырос на войне и ею был воспитан. И знал: жизнь здесь висит на тончайшей ниточке, тем более – жизнь разведчика. И он никогда не думал о будущем и делал это сознательно: ведь мечты – это сокровище, которому нет ни цены, ни меры; и как подумаешь, что может ведь так случиться, что на одну чашу весов ляжет выполнение задания, а на другую – твоя мечта… Нет! Он был уверен в себе. Он знал, что выберет первое – свой долг. Но он не хотел этой ненужной борьбы, не хотел, чтобы в нем хоть что-то могло дрогнуть во время выполнения задания; не хотел, пока идет война, чтобы у жизни появилась иная цена и смысл, кроме необходимости выполнить задание.
И вот сейчас перед ним сидел человек, который среди крови и ненависти спокойно рассуждал о будущем и не сомневался в нем; и для него не существовало ничего, кроме этого будущего: «через неделю» и «всегда потом»… и ничего, кроме личной жизни, личной ненависти и личной судьбы…