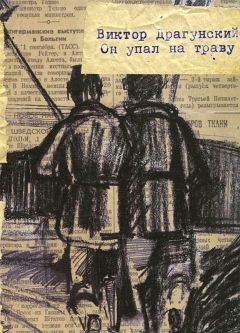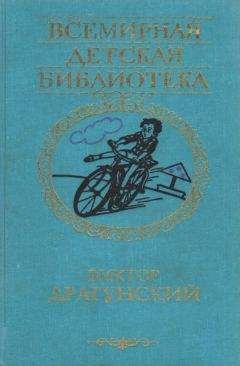Я налил немного воды в таз и вымыл голову. Нельзя сказать, что вода была грязная. Просто невероятно грязная, чудовищно грязная — тогда, может быть, будет верно. Потом, в новой воде, я мыл ноги, они тоже были ужасающе грязные. Но главное было в том, что там, где у меня были язвы, теперь была новая розовая кожа.
Потом я разделся весь донага и развёл оставшуюся воду холодной и кое-как вымыл тело. Живот у меня так ввалился, что я удивился даже. А грязи на мне было столько, что когда вода стекала в корыто, я смотрел на неё и только приговаривал сто раз подряд:
— Ну-ну! Ну и ну!
Я вымылся начерно, чтобы потом не стыдно было идти в баню, убрался, подтёр пол и надел чистое бельё. Потом я встал у стола и поел оставленного мне медицинскими сестрами разнокалиберного и разноцветного хлеба: чёрного, серого и коричневого. Я съел сахар, конфету, маленький кусок колбасы и запил всё это холодной водой. Потом потушил свет и, отодвинув штору из чёрной бумаги, глянул в окно. На дворе было светло. Значит, был день и я проспал часов шестнадцать. Нужно было идти…
24
Войдя в театр, я почувствовал странную атмосферу безлюдья. Никто не встретил меня в служебном проходе, и я, опираясь на байсеитовский костыль, прошёл через внутренний коридор, не встретив ни одного человека. В коридоре, загораживая проход, стоял ящик. На нём было написано: «аппаратура». Он был перевязан толстыми верёвками. Протиснувшись боком, я прошёл дальше и увидел сквозь неплотно закрытую дверь следующей комнаты Зубкина. Он был похож на лягушку больше, чем когда-либо. Воровато озираясь, он вытащил какую-то папку и разорвал её в клочки. Я смотрел на него. Я не понимал, что он делает, но во всей его повадке в эту минуту было что-то такое мерзкое, подлое и даже предательское, что у меня просто почки заболели от отвращения, и я ушёл.
Пройдя налево, я услышал голоса в буфете.
«Вот и еда», — подумал я и толкнул дверь.
Валя шла через комнату на подламывающихся каблучках. Она шла, обходя голые мраморные столики, прямо к стойке. Там стоял человек. Он был в узких брюках, мне показалось, что это лосины, — так туго они облегали его. Валя шла, протягивая к нему руки. Он подал ей стакан. Валя взяла его и пошла за свой столик. Она меня не видела. Я шагнул к ней навстречу.
Я сказал:
— Почему ты не ответила на письмо?
Она взглянула на меня и выронила стакан. Он упал на каменный пол, и кисель разлился розовой лужицей.
А Валя смотрела на меня, и вдруг я увидел, что её глаза до краёв переполнены злостью. Она сказала негромко и внятно:
— Как вы изменились. Вы что, с того света, что ли? Я получила вашу записку, она патетична. Меня тошнит от патетики!
Она подошла ко мне близко, и никто не мог слышать её слов. Я ожидал чего угодно, но она всегда была полна неожиданностей. И тут она сказала мне, глядя в глаза очень откровенно:
— Письмо — это документ, братец… — И пошла мимо.
Значит так: я получу твоё письмо и потом буду показывать его каждому встречному и поперечному и буду похваляться?!
Сука.
Я спустился вниз, в кладовую, кладовщик сидел и барабанил пальцами по столу. Увидев меня, он сказал:
— Вернулся?
Я сказал:
— Да. Примите.
Я снял с себя ватник и, привалившись к стене, стянул сапоги. Старик долго и сокрушённо осматривал прожжённый истёршийся ватник. Он поворачивал его и так и этак, поближе к свету, и всё поглядывал неодобрительно на меня, качал головой и цокал.
Сапоги мои окончательно расстроили его, и он сердито бросил мне мои ботинки. Я снял портянки и переобулся. Стало удивительно легко ногам. Просто казалось, что я босиком. Я поднялся наверх и вышел из театра.
Мне надо было попасть на Тверской бульвар, в райком. Я знал, что делать. Пусть попробуют мне отказать. Я не от себя прошу. Так мы сговорились с Лёшкой Фомичёвым. Он упал на траву, там, на этой проклятой дороге, он упал на траву и закрыл свои карие очи. Меня надо взять, это за меня просит моя единственная, моя ненаглядная Дуня, она ждёт, что я приду и возьму её в жёны. Серёжа Любомиров просит за меня и те, кто остался позапрошлой ночью на той стороне, у нашего штаба, когда фриц перелетел и отрезал им путь к жизни. Они посылают меня к вам, товарищ Райком. Я остался цел, но это чудо, и значит только то, что я должен доделать работу. Эту страшную работу войны. Я буду делать её всегда, пока цел. А если я цел не останусь, — то останется другой.
Вот так я и скажу в райкоме, пусть попробуют меня не послать, я чёрт знает до кого дойду — не имеют права меня браковать!
25
Я еле протолкался через толпы людей. Повсюду стояли столы, кого-то записывали, выкликали, проверяли. Здесь были студенты, рабочие, служащие и даже школьники. Здесь никто не собирался зажимать меня. Просто мне сказали, что я пришёл не туда, и сочувственно и благожелательно посоветовали:
— Иди в МК. Раз ты в партизаны, иди туда. Колпачный переулок.
— Возьмут? — грубо спросил я, нервы мои были напряжены.
— Иди сходи, — уклончиво сказал вихрастый инструктор. Хотелось мне тогда иметь крылья, но пришлось всё-таки идти пешком. Но я не такие куски хаживал, я отдохнул, я надеялся и поэтому дошёл быстро и споро.
В коридоре толкался народ. Я увидел женщину в чёрном платке, крест-накрест, туго-натуго облегавшем грудь. Она была похожа на ту, которая звала с плаката «Родина-мать зовёт».
— Двух сынов убили и мужа, — сказал кто-то за её спиной. Я с любовью смотрел на её прекрасное лицо. К человеку, от которого всё зависело, была очередь, входили по двое, а то и по трое. Я долго ждал. Когда меня вызвали, я вошёл в просторную, плохо прибранную комнату, в ней тяжело пахло холодным табачным дымом, и за столом сидел человек с густо заросшим зелёной бородой лицом. Он сидел на табуретке, она скрипела под ним, под его вёртким телом. Он был в кожанке. Перед этим человеком стояла девочка в синем пальто. Из-под пальто торчала коричневая юбка, а из-под юбки красные лыжные штаны. Из-под огромной шапки-ушанки свисали две косички. Я видел её худенькое личико, освещённое серыми глазами, огромными и чистыми. Девочка стояла перед человеком в кожанке и что-то говорила. В голосе её была мольба. С решимостью и надеждой смотрела она на привыкшего к запаху холодного табачного дыма человека. Он же смотрел на неё из-за барьера своих бессонных ночей и моргал красными, воспалёнными веками. Он всё наклонялся вперёд, табуретка скрипела, — видимо, человек хотел получше разглядеть девочку. Выслушав её, он болезненно поморщился и спросил:
— И что же ты собираешься делать в наших партизанских отрядах?
Девочка взмахнула худенькой рукой и шагнула к столу.
— Взрывать, — сказала она.
Человек в кожанке взглянул на неё, и вдруг что-то осветило его заросшее зелёной щетиной лицо. В глазах появились нежность и боль. Но он тотчас сдержался, погасил свой свет изнутри и сказал, отвернувшись:
— Иди, девочка, домой…
Она отошла от него и, прислонившись к грязной стене, заплакала. Он скрипнул табуреткой и сказал:
— Следующий.
Я подошёл к нему, стараясь не хромать, он поговорил со мной и сказал, что ладно, я вполне подойду и что завтра меня, возможно, отправят к месту назначения, и чтоб я не уходил.
— А пока, — сказал он мне, черкнув что-то на бумажке, — а пока, Королёв, можешь спуститься вниз в подвал, найдёшь там товарища Андреева, предъявишь ему эту записку, и он тебе выдаст сапоги и ватник…
От редактора серии «Как это было»
Любое прикосновение к «военной»[1] теме — литературное, историческое, мемуарное — болезненно. И потому, что «военные» раны заживут ещё нескоро, и потому, что эта тема так долго была — и остаётся — идеологическим инструментом (или даже оружием). Причём и во «властных», и в «оппозиционных» руках. Власть создаёт удобный ей образ «подвига советского народа», а неприемлющие эту власть разрушают её «миф», создавая взамен свой собственный.
Хрестоматийный пример — судьба Зои Космодемьянской, первой женщины — героя Советского Союза (звание присвоено ей посмертно). О казни юной партизанки страна узнала 27 января 1942 года из статьи «Таня», опубликованной газетой «Правда»; автор этой статьи (и последующей, от 18 февраля — «Кем была Таня»), журналист Пётр Лидов, писал: «Небольшая, окружённая лесом деревня Петрищево была битком набита немецкими войсками <…> Однажды ночью кто-то перерезал все провода германского полевого телефона, а вскоре была уничтожена конюшня немецкой воинской части и в ней семнадцать лошадей.
На следующий вечер партизан снова пришёл в деревню. Он пробрался к конюшне, в которой находилось свыше двухсот лошадей кавалерийской части <…> В этот момент часовой подкрался к нему и обхватил сзади руками. Партизану удалось оттолкнуть немца и выхватить револьвер, но выстрелить он не успел <…> Партизана ввели в дом, и тут разглядели, что это девушка».