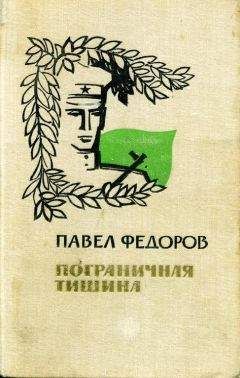События, происходившие на границе в течение предвоенной зимы, заставляли наших командиров о многом думать. Лейтенант Усов и политрук Шарипов иногда подолгу сидели в канцелярии заставы, обдумывая каждый случай задержания фашистских шпионов, каждое боевое столкновение с гитлеровскими солдатами.
— Усиление разведки — это верный признак подготовки к войне, задумчиво говорил Виктор Михайлович. — Да, и обрати внимание, Александр, почти все задержанные нами за последнее время нарушители границы — матерые фашистские шпионы и военные разведчики. Раньше шли беженцы из Польши, а теперь только одни акулы попадаются. Это неспроста…
С того времени как Галина вышла замуж и уехала в Гродно, прошло больше полугода. Однажды вечером к Франчишке Игнатьевне пришла Ганна Седлецкая. Присев на скамью, она сказала:
— У нас мама заболела.
— Слегла все-таки? Я давно ей говорила, что надо поберечь себя, быстро откликнулась Франчишка Игнатьевна. Она не раз пробовала заговорить со Стасей о ее младшей дочери, передать некоторые приятные новости о Галине. Но Стася Седлецкая, не удостаивая соседку ответом, гордо отворачивалась и, наклонив голову, молча отходила от нее.
— Мама по ночам плачет и совсем мало спит. Второй день как слегла, ничего не кушает и все время молчит. Папа тоже все вздыхает. Не знаю, тетя Франчишка, что мне делать?
— Что тут можно поделать? — Франчишка Игнатьевна подбоченилась и в раздумье пожала своими узкими плечиками. — Ничего не поделаешь. Галину назад вернуть нельзя, и я вам скажу по секрету, что Галиночка в городе так живет, дай бог, чтоб другие так жили. Башмаки у нее… так это башмаки; платье каждый день новое и такое, как у польской королевы на картинках!
— Да откуда вы это знаете, тетя Франчишка? Вы же не были в Гродно! Да и мы ничего не знаем — мама порвала, не прочитав, письмо от нее.
— Как же мне не знать? — обиженно заговорила Франчишка Игнатьевна. Как будто я не бываю на заставе и чужой там человек! Как будто туда не приезжают из Гродно всякие начальники, как будто они ховаются от Франчишки и не беседуют с нею! Да сколько раз я самого главного начальника молочком поила и благодарности получала! А разве Клавдия Федоровна не бывает в Гродно и не заезжает к Галине и не рассказывает потом новости! Да жена того комиссара, товарища Шарипова, родную матку так не любила, как любит Франчишку Игнатьевну… Галина ваша здесь гусят пасла, и они ей голяшки щипали, а там она офицерская жена! Каждый день в театры ходит или на автомобиле ездит, на этих самых роялях бренчать учится и поет! А поет она, ты сама знаешь, не хуже пани Гурской… А вы мне говорите! Ваша мама, я знаю, чем больна. Гордостью своей! Чтоб гордиться — не надо в бархат рядиться; чтобы барыней быть — надо барина родить, так говорили старые люди. Что этот русский офицер, Костя, не достоин быть зятем Стаси Седлецкой? Взять да стряхнуть с нее эту барскую спесь, она и выздоровеет.
Ганна и сама понимала, что мать всерьез не больна, просто она страдала тоской по дочери и раскаянием за свой безрассудный поступок, который толкнул тогда Галину на такой решительный шаг. Ганна видела, что матери хотелось, чтобы Галина приехала и сделала шаг к примирению.
— Ты, Ганночка, сама знаешь, что после Галиночки мне любить, кроме тебя, некого, может, только ребятишек с заставы, так они совсем малюсенькие и их все любят, — продолжала Франчишка Игнатьевна. — Так я тебе скажу, как можно вылечить твою мать. Ей надо свою панскую амбицию завязать в тряпочку и помириться с зятем. Он — советский офицер и имеет свою гордость. Это понимать надо. Вам надо гордиться таким зятем, а не отворачиваться от него.
— Но мама с ним и не ссорилась, — возразила Ганна, чувствуя сама, что говорит не те слова.
— Эге! Яка ты востра! Твоя мать оскорбила его! Она не захотела, чтобы он стал мужем ее дочери. На Галину за это в драку кинулась и всякие слова говорила. Мне стыдно было слушать такие слова! Мои щеки горели тогда, будто перцем натертые. Да что там… даже вспоминать не хочется!
Слова Франчишки Игнатьевны были справедливы. Ганна давно осудила поступок матери и не раз говорила ей, что она не права, что изменить ничего нельзя, надо смириться, написать письмо или поехать в Гродно. Но мать и слушать не хотела.
Вернувшись домой, Ганна собрала на стол и позвала отца ужинать. Стася второй день лежала в постели.
Олесь после исчезновения Сукальского ждал вызова на допрос, но о нем словно забыли. Владислава после допроса освободили. Юзефа Михальского отправили в Гродно и там оставили. Олесь чувствовал себя скверно, ходил из угла в угол молчаливый и подавленный. В доме Седлецких установилась гнетущая, словно после покойника, тишина. Все трое перестали громко разговаривать и избегали смотреть друг другу в глаза.
— Я думаю завтра поехать в Гродно, — как-то за ужином решительно заявила Ганна.
— В Гродно?
Олесь медленно поднял от тарелки голову, закашлялся, пережевывая кусок мяса, и отодвинул тарелку в сторону. По строгому и упрямому взгляду дочери он понял, что Ганна задумала что-то важное.
— Зачем нужно тебе ехать в Гродно? — спросил он тихо.
— У меня расшаталась коронка, нужно переделать…
Ганна подняла верхнюю губу и показала темный без коронки зуб.
— Ты сама сняла коронку? — пристально посматривая на дочь, спросил Олесь. Он понимал, что Ганне трудно говорить неправду, и был доволен, что она придумала эту историю с зубом.
— Я же сказала, что коронка расшаталась, — не поднимая головы, ответила Ганна, продолжая есть.
Олесь покивал головой и едва заметно улыбнулся.
— Хорошо, — после некоторого раздумья проговорил он. — Мы можем поехать вместе. У меня тоже найдутся в городе кое-какие делишки. Только не нужно пока говорить об этом матери.
— Но она все равно узнает, — возразила Ганна.
— Конечно, узнает. Я сам с ней поговорю.
Неизвестно, какой разговор произошел у Олеся с женой, только на другой день рано утром Ганна увидела, как мать с заплаканными глазами вынимала из комода платья и белье младшей дочери и все это аккуратно складывала.
Чалая кобыла тащилась по тряской, вымощенной булыжником дороге томительно долго. Олесю часто приходилось сворачивать в сторону, закрывать пугливой лошади мешком глаза и пропускать мимо брички поток груженых автомашин.
Стояла ранняя весна сорок первого года. На окрестных полях ползали новенькие челябинские тракторы. Такое количество машин Олесь видел впервые в жизни. "Брехал Михальский, что у Советов тракторы только на картинках", — подумал Олесь. Странными и жалкими казались ему сейчас упирающиеся в дорогу узкие полоски единоличников с тощими кустиками озимой ржи, посеянной на плохо удобренной земле. И вместе с тем никогда еще Олесь не видел таких массивов, принадлежащих одному хозяйству. Ровными рядами колыхались под ветерком густая пшеница и широкоперый ячмень. "Богато будет хлеба", — с завистью подумал Олесь и, вспомнив свое жалкое, заросшее сорняками поле, устыдился. Вспахал он его мелко, унавозил плохо. Ушла Галина, и некому стало навоз вытаскивать, Ганна не такая здоровая и сильная, как младшая дочь. Забороновал тоже небрежно, даже не разрушил ссохшихся комьев. Сколько пропадет и заглохнет под этими комьями зерна!
В одном месте его кобыла так взбунтовалась, напугавшись легковой машины, что поставила бричку поперек дороги. Из машины вылезли два человека. Один, в военном плаще, был секретарь райкома, а другой — кто бы мог подумать? — Иван Магницкий, бывший плотогон, разъезжавший теперь с начальством в автомобиле. Секретаря райкома Викторова Олесь знал, когда еще тот был капитаном-пограничником. Потом он заболел, где-то лечился и несколько месяцев назад вернулся в город.
Поздоровавшись с Олесем и Ганной, Викторов подошел к лошади, взял под уздцы, погладил трясущуюся грудь коня, успокаивающе заговорил:
— Ну чего, глупая, от машин шарахаешься… Машины пришли тебе на помощь, а ты их пугаешься. Зачем, товарищ Седлецкий, вы ей мешок на глаза накидываете? Так она никогда у вас к машинам не привыкнет. Ну, пойдем, хорошая моя, пойдем ближе, ничего страшного…
Викторов успокоил лошадь, снял с ее глаз мешок и подвел к постукивающему мотору. Она недоверчиво покосилась на блестевшие части радиатора и вдохнула ноздрями запах бензина. Викторов велел шоферу погудеть. Кобыла рванулась было в сторону, но Викторов ее удержал, велел загудеть еще и проехать мимо. Лошадь хотя и беспокоилась, но все же оставалась стоять на месте. Ганна не сводила внимательных глаз с худощавого лица секретаря райкома и невольно залюбовалась его простой, приветливой улыбкой. Она видела его много раз и в школе и на собраниях, слышала его голос, но сейчас он показался ей и проще и лучше, чем в официальной обстановке. Она знала, что Викторов был серьезно болен. Ходили слухи, что его бросила жена. "Наверное, это очень глупая женщина", почему-то подумала Ганна. У человека, пережившего тяжелое личное горе, бывают минуты, когда, проверяя себя, он начинает прислушиваться к своему сердцу, и вспоминает что-то из прошлого, и вдруг находит, что жизнь еще может быть снова прекрасной.