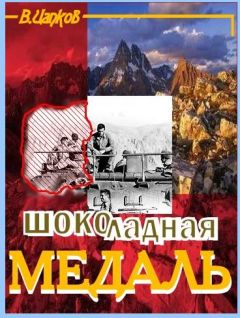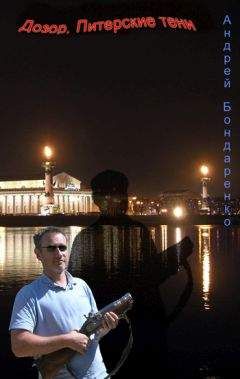После того, как изъял «Гулаг» , Михал-Михалыч сказал об этом замполиту Джафарову. Тот страшно перетрусил, потому как сам был на крючке: Мих-Мих отнял у него машинописную копию лекции некого профессора Углова о вреде пьянства, в которой довольно прозрачно намекалось на то, что советское правительство своей политикой чуть ли не поощряет пьянство… Да и за Джафаровым тянулась сомнительная история, касающаяся пропажи девяноста тысяч афганей, якобы изъятых, по словам пленного духа, на боевых… Джафаров в тот же день прибежал в четвертую роту, рассадил всех на политмассовую работу, провел беседу, после чего раздал всем солдатам листки бумаги и предложил ответить на вопрос: кто такие Сахаров и Солженицын? С облегчением он потом собирал бумажки. Из всей роты положительный ответ дали только двое. Их ответ был одинаков, вероятно один списал у другого: «Сахаров и Солженицын-два солдата из «полтинника» , осужденные на четыре года лишения свободы за зверское избиение солдата-связиста в инфекционном госпитале.»
Тогда Михал Михалыч зашел с другой стороны, со стороны командира батальона, который хотел поступить этим летом в Академию генштаба, поэтому был до посинения лоялен.
— Товарищи офицеры! На будущей неделе наш батальон привлекается на боевые действия в Логарском ущелье. Предположительно, наша задача будет следующей…
Комбат показал пальцем на светлое пятно ущелья южнее Кабула. Офицеры батальона, собранные в штабе на еженедельное подведение итогов, без интереса посмотрели на карту, кнопками приколотую к стене.
— В течение недели карта будет висеть здесь. Я объявляю конкурс на лучший замысел. Вот расчет сил и средств, вот предположительные базы противника, а вот — ближайшие караванные тропы в Пакистан…
Комбат нес эту галиматью, скользил взглядом по головам офицеров, тоскливо ждавших конца совещания, а сам боковым зрением все время держал под прицелом Найденова-заинтересуется тот картой или нет, особенно караванными тропами. Тот подвел, не заинтересовался. Комбат ему тоже не доверял, хотя причина для недоверия у него была пустяковой: после вывешивания возле туалетов плакатов с ослом в воспитательных целях, Найденов предложил оклеить стены сортира памятками и наставлениями, чтобы солдаты впустую не проводили там время.
Еще более осложнило работу по просвечиванию личности Найденова то, что не далее, как вчера, тот подошел к Мих-Миху и, выражаясь блатным языком, «вложил» , что Олегов по пьяни проболтался о том, что какая-то санитарная машина с майором во главе сдала индусам масла на четырнадцать тысяч.
— Тоже мне, принципиальный коммунист нашелся, — зло подумал о Найденове Михал-Михалыч. Этот поступок противоречил стройной гипотезе о том, что причина политической крамолы в четвертой роте — в замполите роты, ставшем не на тот путь, сбившемся с верных ориентиров.
Чтобы укрепиться в своих догадках, Михал Михалыч на следующий день снова вызвал к себе Найденова.
— Ты слышал о том, что Костиков, которого ты заменил, купил «Шарп-777 «на деньги, привезенные контрабандой из Союза?
Найденов пожал плечами.
— Что-то такое слышал, что якобы через месяц после отпуска он купил аппарат за тридцать тысяч.
— Но на одну получку такого не купишь?
— Естественно.
— Значит?…
— Все возможно.
— Пиши!
— Что? — испугался Найденов, — Я ничего не знаю о том, что было за год до моего приезда в Афганистан!
— О чем говорили, то и пиши. Я продиктую: «По существу заданных мне вопросов могу сообщить следующее: считаю, что Костиков мог через месяц после отпуска купить аппаратуру только на ворованные или контрабандные деньги.»
Найденов был в отчаянии. Отказаться было невозможно, он был по рукам и ногам повязан «Гулагом» , отказ означал бы, что на его службе поставлен крест, а служить еще хотелось. Написать — еще больше увязнуть, бумага явно провокационная. Причем, нацелена, возможно, против него самого. Он взял протянутый лист, согласно кивнул головой и написал продиктованное, заменив слово «считаю» на «слышал мнение» .
— Разрешите идти?
— Иди, конечно, — Михалыч ответил ласково и отпер ему дверь. Только когда Найденов ушел, он заметил искажение текста, который должен был «повязать» Найденова в том или ином отношении. Весь фокус был в том, что Михал-Михалыч уже имел бумагу, в которой описывался пьяный разговор о том, как Костиков привез из Союза две тысячи рублей сотенными бумажками, зашитыми в ручке чемодана, и о том, какие неприятности имела мама старшего лейтенанта Костикова, работавшая бухгалтером и взявшая в кассе в долг деньги сотенными купюрами и не успевшая внести деньги обратно в кассу, потому как сберкассу, где хранил деньги сын, на два дня закрыли из-за аварии с электропроводкой. И в конце той бумажки было написано, что при том разговоре присутствовал старший лейтенант Найденов, стало быть, знает. Вот и вся его принципиальность.
Со словами «слышал мнение» бумажка абсолютно ничего не значила. Ничего, подумал Михал Михалыч, мы его переиграем, копнем со стороны Марченко. В самом деле, зачем солдату в условиях необъявленной войны учить иностранный язык, который, к тому же, можно считать языком вероятного противника? Только для измены Родине…
Очнулся Олегов от острой боли в плече. С трудом разлепив глаза, он увидел индуса, похожего на Сержа, в руках у того блеснула никелированная коробочка, он укладывал в нее шприц.
— Как дела, Миша? — услышал Олегов дружелюбный голос. Он повернул голову на голос и увидел в темном углу еще одного индуса, который сидел в кресле. Олегову показалось, что этот индус другой породы. Он привык, что знакомые ему торговцы стройные и худощавые. Этот же был плотным, массивным, вряд ли можно было застегнуть на его рыхлом животе пиджак. Наверное, это тот самый Маскуд, подумал Олегов.
А сидевший в кресле перед низким журнальным столиком индус был действительно другой породы, во всяком случае, в этом он сам был твердо убежден. Он был, в отличие от торговцев касты «вайшьи» , осевших в Кабуле с незапамятных времен Чандрагупты, освободившего Кабул от ставленников Александра Македонского и задолго до Клаузевица заявившего, что война есть продолжение политики. Чандрагупта был сыном тенистых лесов Индии, в изобилии дававших своим детям пищу, тем самым освобождая их разум от тяжкой борьбы за существование для размышлений над более сложными материями. Его родиной был Бомбей, в Кабуле он оказался, унаследовав дела своего брата, трагически погибшего при следовании с караваном на собственную свадьбу.
— Ты дядя Маскуд? — спросил Олегов, глядя на толстяка, благодушно развалившегося в кресле. Черты его лица он толком рассмотреть не мог, окна были завешены плотными красными портьерами.
— Что-то вроде этого, — засмеялся толстяк. Он продолжал внимательно рассматривать сидевшего перед ним офицера в блеклой форме.
Худощавый парень еще раз звякнул никелированной коробкой и бесшумно вышел, ступая по пушистому ковру. Оставшиеся в комнате один на один Олегов и толстяк молчали, разглядывая друг друга, один — с любопытством, а другой — с копившимся раздражением.
— Зачем вы меня сюда привели? Вы от Сержа? Я должен был с ним встретиться.
— Конечно, конечно, — успокаивающе ответил толстяк и снова замолчал. Предки толстяка всегда были правителями и воинами, и сейчас он сосредоточенно думал, стараясь принять решение, достойное их. Проще всего было бы поступить по рецепту: есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы. Однако дело оказывалось не таким простым. В конце концов, исчезновение этого невзрачного парня дохода не принесет, а его существование?
— Откуда это у тебя?
Толстяк достал из-под синего с блестками платка, лежащего на столике, фотографии и показал Олегову. Тот наклонился вперед, прищурился и увидел, что это его фотография с президентским глобусом.
— Сфотографировался позавчера. А что? — Олегову не очень было понятно, почему и Серж и этот толстяк столько внимания уделяют этой карточке.
— А в этой форме ты почему?
— Форма, как форма, ничего особенного. Не в военной же на базар ехать?!
— А переодевался где?
— На вилле.
— Вилле? — недоуменно спросил толстяк. — Какой вилле?
— На вилле генерала Нефедова, главного военного советника.
— Понятно…
В комнате снова воцарилась тишина. Толстяк уже с большим любопытством разглядывал Олегова, на его глазах этот парень, как хороший товар, рос в цене.
— Ладно, а это откуда у тебя? — толстяк прямо впился глазами в Олегова, достав из-под платка крошечный в его пухлой руке блестящий пистолетик.
— Мне его подарили… — севшим голосом произнес Олегов. Он и забыл о «старе» , который он на вилле незаметно от начкара положил в карман. Толстяк удовлетворенно кивнул головой, ему показалось, что слова «мне его подарили» прозвучали искренне. Осталось только выяснить, кто подарил, тот ли человек, у которого он видел этот пистолет с гравировкой на ручке несколько лет назад в долине Пагмана.