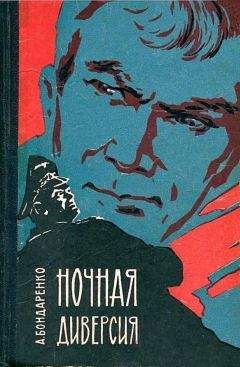Сейчас он вернулся в город со своим преемником для передачи дел. Еше по дороге он поделился с новым начальником гестапо своими подозрениями. Тот, внимательно выслушав, согласился. Эта Эльза Штрекке нуждается в самой серьезной проверке. И не только Эльза, но и сам майор Штрекке.
— Скажите, господин оберег, этого Штрекке вы хорошо знаете? Лично вам он не внушает подозрений?
Говивиан несколько минут молчал, борясь с искушением скрыть свою личную роль в жизни майора. Потом, решительно отбросив личные переживания, рассказал.
— Вся трагедия в том, что я лично привлек его к разведке. Он еще был желторотым птенцом, когда я завербовал его в Москве. Он туда приехал к отцу, который работал тогда в посольстве. Вскоре я перешел на другую работу, но по отзыву коллег, в чье распоряжение перешел Штрекке, работал он неплохо.
— А не мог ли он работать на русских?
— Не думаю. А впрочем, не уверен.
— Ну, что же, давайте займемся его женой, тогда все будет ясно. Если она враг, тогда совершенно ясно — она работает вместе с мужем.
Прямо с аэродрома оберст позвонил в штаб и приказал срочно доставить в гестапо хозяйку салона-парикмахерской Эльзу Штрекке. Сидя в кабинете со своим преемником, он поджидал, когда ее привезут. Наконец появился адъютант.
Фон Говивиан достаточно хорошо изучил его, чтобы с первого взгляда понять — опять неудача.
— Герр оберст, хозяйка парикмахерской Эльза Штрекке на третий день после вашего отъезда выехала к мужу и больше не возвращалась. После ее отъезда взяла расчет и исчезла из города вместе с матерью мастер Елена Сазонова.
— Так вот зачем она приглашала меня в день операции на ужин. Проверить! Уточнить, сработал ли механизм, запущенный коммунистами! А я, старый болван, рассыпался перед ней в любезностях, извинения просил, в свою неотразимость поверил. Идиот! Осел!»
Конечно, всю эту самообличительную тираду оберст фон Говивиан вынужден был произнести только для самого себя, а вслух лишь коротко приказал:
— Срочно пошлите радиограмму в управление. Уточните местонахождение майора Штрекке и его жены.
Ответ пришел быстро. Майор Штрекке два часа назад во главе крупной диверсионной группы направлен самолетом для заброски в глубокий тыл к русским.
— Проклятье! — И оберст в ярости швырнул тяжелое пресс-папье в огромное, в полстены, зеркало.
Адъютант, утратив свою обычную беспристрастность манекена, бросился собирать осколки.
— Куда? Осел! Срочно радиограмму в управление. Штрекке — враг!
…А в это время, когда оберст фон Говивиан бесновался в своем кабинете, за несколько десятков километров от города, в лесу, в землянке командира партизанского отряда, продолжалось заседание трибунала.
За грубо сколоченным столом сидели*. Худой, Самойленко и еще трое партизан.
— Скажите, подсудимый, где вы условились встретиться с остальными участниками побега?
— Я вам уже отвечал на этот вопрос. Мы разошлись в разные стороны, в расчете, что поодиночке легче добираться. О встрече мы не договаривались.
— Когда вы разошлись?
— Точно не скажу, это было перед самым рассветом.
— Когда была организована связь с оберстом Гови-вианом? Как вы передали ему оперативный план операции? Ведь мы вам сообщили время нападения на комендатуру, вокзал и прочие объекты, а также силы, которыми будет оно осуществлено.
— Никакого оберста я не знаю. Я человек новый в городе, и вам всего удобней свалить вину на меня за провал операции.
— А откуда вы знаете, что она провалилась? Отвечайте, подсудимый!
Он молчал, чувствуя, что допустил промах.
— Хорошо. Вернемся еще раз к некоторым деталям вашей биографии. Где вас ранили?
— У Новоград-Волынского.
А точнее?
В районе деревни Несолонь.
— Еще один вопрос. Когда вы видели в последний раз свою дочь?
— В мае 1941 года. Она приезжала ко мне в Днепропетровск.
— Опишите ее внешность.
«Рубан» довольно подробно описал внешний вид Ольги.
— Довольно! Вы лжете! Вы присвоили чужое имя.
— Как вы смеете?
— Смею! Введите свидетельницу.
Предатель побледнел, напряженно посматривая на дверь… В землянку вошла Ольга.
— Я — дочь Семена Алексеевича Рубана. Этот негодяй присвоил имя моего отца, чтобы…
Раздался дикий вопль. Провокатор рванулся вперед, но сильный удар в челюсть свалил его на пол.
Заседание продолжалось.
— Итак, подсудимый, ваша фамилия, имя, отчество?
— Сорокин Павел Васильевич.
— Что это за браслет? — едва сдерживая негодование, спросил Андрей Михайлович, — когда вы его приобрели?
— Еще до войны купил в Одессе.
Андрей Михайлович, уже не сдерживаясь, прервал его:
— Врете, негодяй! Введите вторую свидетельницу!
Вошла Татьяна. Она с отвращением смотрела на подсудимого. Она помнила Шеремета краснощеким, пышущим здоровьем и энергией. А сейчас перед ней сидел сгорбившийся, костлявый человек с густой щетиной на сером обрюзглом лице. Он тупо смотрел на Таню, потом вдруг, схватившись за горло, начал судорожно икать.
Переждав, Худой продолжал допрос.
— Итак, ваша настоящая фамилия?
Трибунал закончил свою работу на рассвете. Провокатор был приговорен к высшей мере наказания.
…Обхватив голову руками, ничего не видя перед собой, натыкаясь на стены, метался по землянке Кондрат Шеремет. Страх, злоба, ненависть владели им. Ничего человеческого не оставалось в этом жалком подобии человека.
Где, когда началось твое падение в эту страшную бездну, Кондрат Шеремет?
Может быть, в лагере, когда ты, воспользовавшись доверчивостью Рубана, непоколебимым стремлением старшего лейтенанта бежать из немецкого плена, черной змеей влез ему в душу?
Нет, Шеремет, гораздо раньше. И даже не тогда, когда, застрелив товарища, ты перебежал к немцам. Нет. И не с того это началось, когда ты, пытаясь похитить ценности, сданные рабочими в фонд обороны, выкрал продовольственные карточки у своего товарища по работе — Татьяны Самойленко, обрекая ее на голод. Так когда же, когда? Может, падение твое началось в детстве и в нем виноваты твои родители? Нет, у тебя были хорошие, работящие, честные отец и мать. Твой отец, плотник, очень заботился о тебе. Он всегда мечтал дать сыну высшее образование, как бы ему это трудно ни было. Правда, родители не в состоянии были обеспечить твое безмятежное детство. Даже в старших классах тебе приходилось носить, аккуратно заштопанные парусиновые туфли и кургузое, перешитое из отцовского, пальто. Многие твои товарищи одевались не лучше, но не придавали этому значения. А для тебя это имело значение. И еще какое!
Помнишь, Кондрат, как ты, завидуя своему соученику, тайком пробрался в раздевалку и безжалостно, в ленты, исполосовал его пальто бритвой? Правда, о том, что это сделал ты, никто не узнал, а школьной гардеробщице тете Марусе пришлось из своей скромной зарплаты выплачивать стоимость испорченного пальто. Но в твоей душе не шевельнулось ни угрызение совести, ни жалость к невинно пострадавшей женщине.
Ты уже тогда был ожесточен, хотел властвовать. Ты грубил родителям, учителям, хулиганил. Но как ты преобразился, когда педагоги, ища пути к твоей душе, порекомендовали избрать тебя старостой класса!
Получив в руки пусть небольшую, но власть, ты очень боялся потерять ее.
А когда ты стал взрослым, Кондрат, твой отец, верный своей мечте, отрывая от семьи все, что можно было оторвать, дал тебе высшее образование. Был ли ты благодарен ему за это? Нет, не был. Ты принимал это кая должное.
Ты рос, а вместе с тобой росли и твои грязные мечты.
Ты уже мечтал о большой власти, о больших деньгах, о «шикарной», «красивой» жизни, без труда, без забот, жизни за счет других.
И когда ты пошел служить немцам, тебе казалось, что ты, как никогда, близок к осуществлению своей мечты. Тебе не приходила в голову мысль, что, как только ты перестанешь быть нужен немцам, тебя пристрелят, как паршивого, бездомного пса где-нибудь под забором.
Ты получил то, что заслужил. Причем получил сполна. Правильно говорят в народе: «Собаке собачья смерть»…
…Предателя расстреляли утром. Его вывели перед строем — жалкого, дрожащего. И, когда отделение, выделенное для приведения приговора в исполнение, вскинуло автоматы, он не мог принять смерть стоя, упал на колени.
В таком положении его и настигла пуля, пуля справедливого возмездия.
Их было восемнадцать в холодном фюзеляже транспортного самолета. Восемнадцать мужчин, не знакомых друг с другом, одетых в одинаковые грубые костюмы, с одинаковыми парашютами и ранцами. Сидели они молча, угрюмо, стараясь поглубже спрятать лица в воротники курток. Там, в русском тылу, у каждого из них своя задача, свои явки и пароли и, наконец, своя ампула с ядом. Все они были опытными разведчиками и знали: меньше друзей и знакомых — больше шансов на успех. И только майор Штрекке, казалось, забыл об этом правиле. Сбросив шлем, он сидел у бокового люка, чуть улыбаясь каким-то своим сокровенным мыслям.