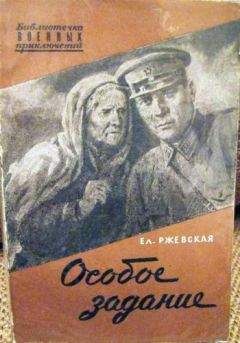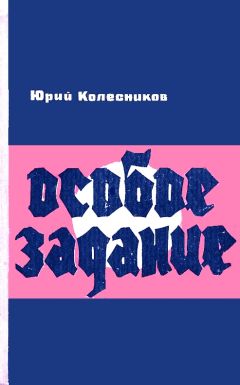При нашем приближении партизаны поднялись на ноги. Мы поздоровались. Немцы, сидя на камнях, с интересом нас рассматривали.
— Товарищ майор, это те немцы, что постреляли лошадей на шоссе возле Угерско, — доложил Журов.
Немцы, услышав слово «майор», вскочили на ноги, вытянулись.
— Вы обыскали их?
— Да, обыскали. Вот их документы и все, что было в карманах. — Журов положил на плащ-палатку два завязанных в пестрые носовые платки узелка.
— Ну, что ж, — тихо сказал я Журову, — того, молодого, отведите в сторонку, в кусты, и посидите с ним, пока я с этим, высоким, поговорю. Выставьте посты для охраны. Богданов и Бердников пусть со мной останутся.
Немцы стояли, напряженно вытянувшись, как в строю, сдвинув каблуки и чуть расставив в сторону локти.
— Ком, Теодор! Ком! — сказал Журов, подойдя к молодому немцу и показывая ему в сторону кустов.
Тот растерянно оглянулся на меня, посмотрел на своего старшего товарища, во взгляде его промелькнула тревога и смертельная тоска.
Второй немец стоял спокойно. Чуть вздернув вверх подбородок, даже не покосившись в сторону уходящего с Журовым товарища, он пристально смотрел на меня.
Он был стройный, широкоплечий, в ладно сидящей еще довольно новой шинели. Красивое, волевое, с правильными чертами лицо обезображивал большой шрам над правой бровью.
— Подойдите сюда. Садитесь, — сказал я ему по-немецки, указывая рукой на плоский камень.
Солдат подошел, уселся, оглянулся на устраивающихся сзади Богданова и Бердникова. Вопросительно глянул на меня. Глаза строгие, весь собран в ожидании вопросов. На виске возле шрама напряженно пульсирует жилка.
Проследив за взглядом немца, я взял в руки узелок с документами.
— Ваш?
— Да, да, мой, — с готовностью ответил солдат.
В узелке солдатская книжка, авторучка, блестящая замысловатая зажигалка, начатая пачка сигарет «Юнона», пластмассовая расческа с металлическим ободком, потертый кожаный бумажник. В нем три письма в продолговатых плотных конвертах, несколько десятков рейхсмарок и оккупационных крон, колода атласных игральных карт чешского производства и две фотокарточки. На обеих улыбающийся обер-ефрейтор с железным крестом на груди. Безобразный шрам над правой бровью от улыбки пополз вверх, и конец его скрывается в густых волосах над виском.
Заметив, что я внимательно рассматриваю его фото, немец что-то хотел сказать, но я отложил фото в сторону и принялся за письма.
Все три отправлены еще в 1943 году на полевую почту в адрес Гюнтера Маунца. Но бумага на конвертах плотная, и письма мало потерлись.
Просмотрел солдатскую книжку. Рядовой Гюнтер Маунц, 1916 года рождения… Отметки о состоянии здоровья, о пребывании дважды в отпуске, о числящемся за ним обмундировании.
— Когда вы были призваны в армию?
— В 1940 году, господин майор, — быстро ответил Маунц.
— В боях на Восточном фронте участвовали?
— Да. С апреля 1942 года, — он твердо, как бы с вызовом, посмотрел мне в глаза.
— Эту отметку тоже там получили? — кивнул я на шрам на лбу.
— Да, в июне 1942 года под Севастополем я был ранен.
— Так что же это такое, Маунц, воюете вы с начала войны, а до сих пор рядовой? Плохо воевали, что ли?
С минуту Маунц молчал и вдруг, как бы набравшись решимости, торопливо заговорил.
…Нет, он не был плохим солдатом или трусом. Доказательством того может служить рана на лбу, полученная в рукопашной схватке под Севастополем. За отличие в боях он был награжден железным крестом и значком участника рукопашных боев, считавшимся высокой и почетной наградой, а также получил звание обер-ефрейтора.
В конце 1943 года попал в 389-ю пехотную дивизию, где служил его старший брат Гельмут. В январе 1944 года на Украине под Уманью брат добровольно перебежал на сторону русских. На другую ночь Гельмут выступил по фронтовому радио. Призывал бросать оружие, кончать кровопролитную войну, сдаваться в плен… Он сам слышал голос брата. Через два часа в окопы пришли два жандарма и арестовали его. Били… Не верили в то, что он не знал о намерении брата бежать к русским. Был разжалован в рядовые. Три месяца служил в Польше в крепости Познань. Там от земляка, вернувшегося из отпуска, узнал, что мать и сестра еще зимой были схвачены гестаповцами и вывезены в концлагерь. С тех пор о их судьбе ничего не знает.
Последние два месяца служил в Пардубице в роте охраны аэродрома. Много слышал рассказов о действиях партизан под Голице, Хоценью, Градцем-Кралове… Ненависть к фашизму, принесшему столько мучений немецкому народу, росла с каждым днем… Решил бежать в лес к русским партизанам. Ждал удобного момента…
Третьего дня его с солдатом Гилле отправили на повозке в Голице на склад за продуктами. По дороге стал предлагать Гилле бросить повозку и скрыться в лесу. Знал настроение Гилле — вся его семья недавно погибла во время бомбежки. Гилле согласился. Решили инсценировать нападение партизан, расстреляли лошадей, разбросали вещи из повозки и бежали в лес…
Тяжело передохнув, Маунц замолчал, бледный лоб покрылся испариной.
— Бердников, отведи его к ребятам, пусть там посидит. И приведи сюда второго.
Бердников с Маунцем ушли. Я вкратце рассказал Богданову историю Маунца.
Мы закурили. Помолчали.
— А не «липа» все это, не ловко продуманная и разработанная в гестапо «легенда»? — как бы раздумывая вслух, сказал Богданов.
— Черт его знает! Но сейчас, к концу войны, и действительно может сложиться подобная ситуация.
Мы стали просматривать документы второго дезертира. Книжка члена «гитлерюгенд». К внутренней стороне обложки прикреплена фотография молодого белобрысого парня в форменной рубашке. Теодор Гилле, 1927 года рождения.
Между страницами солдатской книжки сложенный и тщательно завернутый в целлофан маленький листочек с черной траурной каймой — вырезка из какой-то газеты с сообщением о гибели матери Анны Гилле, урожденной Пфеферинг и сестер Гертруды и Марты… Стянутая резинкой пачка писем и фото, сигареты и неизменная зажигалка.
Вместе с Бердниковым подошел Гилле.
Он тоже высок и строен, но натянутая на уши черная потрепанная шляпа делает его смешным.
Усаживается на камень, где несколько минут перед тем сидел Маунц. На вид ему кажется еще меньше лет, чем указано в документах. Приоткрытые от волнения еще по-детски пухлые губы, толстый и рыхлый, совсем не арийской формы нос, большие оттопыренные уши, бегающие по нашим лицам и разложенным документам бесцветные глаза.
Хриплым, перехваченным от волнения голосом, часто облизывая языком пересохшие губы, то и дело сбиваясь и повторяясь, он рассказывает ту же историю, что мы уже слышали от Маунца.
Я присматривался к нему, прислушивался к интонациям его голоса порой задавал короткие уточняющие вопросы и одна мысль — правда ли все то, что он рассказывает, не давала покоя. Те ли это люди, за кого себя выдают? А может быть, всему этому их научили в гестапо?..
Но тогда зачем оставлена у этого Гилле книжка члена «гитлерюгенд»? Не проще ли было ее совсем не иметь, чтоб не вызывать лишних подозрений? Зачем тогда Маунц рассказывал о своих подвигах на Восточном фронте? Зачем?.. А может быть, именно затем, чтобы не казалось все подозрительно просто. Может быть, гестаповец, готовивший своих агентов, рассчитывал именно на этот психологический момент?
— Какие самолеты базируются на аэродроме в Пардубице? — подтолкнул я умолкнувшего Гилле.
Он оживился, голос постепенно окреп, глаза перестали перебегать с предмета на предмет. Четко и толково он дал основные сведения об аэродроме. И количество, и тип самолетов, и систему охраны, и калибр зениток, и где хранится запас горючего и бомб… Все было правдой и все это нам было уже известно.
Что ж такое? Неужели гестапо приказало дать точные сведения? Или у меня просто излишняя подозрительность и недоверие к этим людям?
Казалось, допрос надо уже кончать и принимать какое-то решение, но ощущение чего-то ненайденного, невыясненного до конца не покидает меня.
Гилле уже совсем освоился, держится более уверенно, шляпа сдвинута на затылок, глаза повеселели. Попросил разрешения закурить и с жадностью ухватился за сигареты.
Я приказал Бердникову привести сюда Маунца.
Как только Маунц, а за ним Бердников, Журов и Сапко появились на полянке, я встал и пошел к ним навстречу. В трех шагах от Маунца остановился, пристально вглядываясь ему в лицо. Не спуская с него взгляда, медленно достал пистолет, щелкнул предохранителем.
Маунц тревожно глянул на сидящих в сторонке и мирно покуривающих Гилле и Богданова.
Бердников и Сапко, еще ничего не понимая, но видя такие мои приготовления, сдернули с плеч автоматы.
— Сейчас ты будешь говорить правду. Сейчас ты расскажешь, какое получал задание в гестапо, — с угрозой, медленно подбирая слова, сказал я.