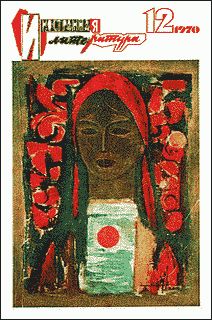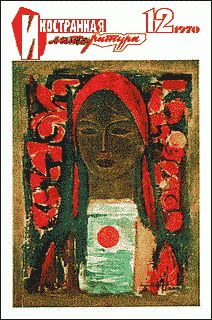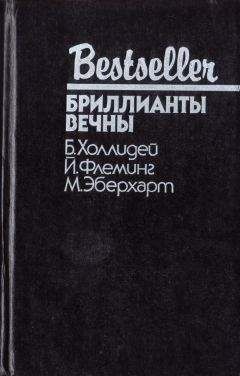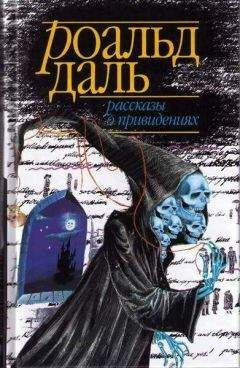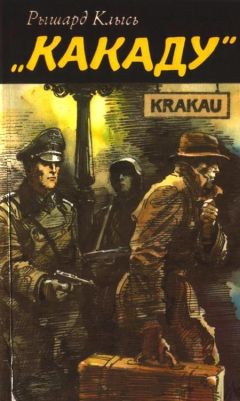Грегори удивленно посмотрел на меня.
— А вы настроены сегодня весело, — заметил он.
— Даже слишком.
— Хорошее настроение, видно, вас никогда не покидает.
— Это точно.
— Что же вас так рассмешило?
— Пустяки. Я подумал, что этот ужин будет дорого стоить.
— Монтер не заплатит ни копейки.
— Значит, за ваш счет?
— Ну, что вы.
— Но кто-то же должен будет за все это платить?
— Заплатят фрицы…
— Браво! Вы, однако, не лишены юмора. Хотел бы я только знать, как вы это сделаете…
Грегори улыбнулся.
— Очень просто, — сказал он. — Каждый раз я сообщаю шефу, что ужинали люди из гестапо. Этого достаточно. С них он никогда не требует денег…
— Шеф — немец?
— Да, приблудный, — произнес он с презрением. — Reichsdeutsch[18].
— А я все время думал, что это заведение принадлежит вам.
— Что вы! Я только управляющий.
— А что случилось с прежним владельцем?
— Вы его знали?
— Да.
— Он давно вышел из игры.
— Прикончили его?
— Нет, умер…
Грегори расставил тарелки, еще раз окинул все критическим взглядом и удовлетворенно кивнул головой.
— Порядок, — буркнул он. — Можно садиться за стол.
Я взглянул на часы: было пять минут седьмого. Грегори забрал поднос и отправился на кухню, оставив дверь полуоткрытой; я достал из кармана сигарету и закурил, а когда поднял голову, горящая спичка осветила мое лицо, отразившееся в зеркале. Только сейчас, на свету, было заметно, как скверно я выгляжу: бледный, под глазами темные круги, веки опухли, как после тяжелого, нездорового сна, но я уже не чувствовал ни температуры, ни усталости, ни даже волнения, одно лишь нетерпеливое ожидание той минуты, когда смогу отправиться в обратный путь.
За стеной после долгого перерыва снова заиграл оркестр, совершенно отчетливо была слышна мелодия, которую играли уже третий раз за этот вечер, то была «La Cumparsita» — танец, который так любила Эва, эта мелодия, наверно, всегда будет напоминать мне о ней. Я подумал об Эве, девушке, которую встретил год тому назад в поезде; с тех пор как судьба столкнула нас в первый раз, прошел всего год, и вот мы снова чужие, сейчас я думал о ней совершенно спокойно, даже холодно, пожалуй, только с некоторой горечью, как о человеке, от которого ждали слишком многого. Но я нисколько не страдал, всего несколько часов назад со мной что-то произошло, а что, я и сам не сумел бы определить; измученный температурой, преследуемый кошмарами, я вдруг как-то очень легко оттолкнулся от всего того, что еще недавно терзало меня и казалось неразрешимым, почувствовал себя таким свободным, таким счастливым, что готов был ликовать.
Черт возьми, от любви не умирают, разве что у человека нет сил дождаться ее конца; не умирают также от сознания собственного одиночества, которое сопутствует нам везде и во всем, напоминая о себе всякий раз, когда мы не можем найти общего языка с другим человеком, когда видим, что все наши лучшие стремления поняты и истолкованы превратно и что никто не может нам помочь выбраться из лабиринта мучающих нас сомнений.
С тех пор как помню себя, я всегда был одинок, меня никто никогда не понимал по-настоящему, все усилия, которые я, одолеваемый всякими сомнениями, вложил в поиски истинного смысла своего существования, вызывали у окружающих лишь удивление и недоверие, искренность, с которой я высказывал свои убеждения, — улыбку жалости, доброта, потребность в которой я всегда ощущал, почиталась за признак слабости; и в конце концов я с изумлением убедился в том, что меня принимают всерьез только тогда, когда я становлюсь жестоким и беспощадным. Все это привело к тому, что я перестал говорить о том, что меня волновало, начал избегать людей, не высказывал своих убеждений и старался в любых обстоятельствах сохранять бесстрастность. Не умея найти общий язык с людьми, чувствуя себя все более и более скованным, я терпел поражение за поражением и в конце концов признал себя побежденным, перестал метаться, но не давал себя уничтожить; постоянно настороженный, понемногу я все больше начинал понимать этот мир, мир существ, мучимых тоской, безмерно терзаемых и преследуемых всевозможными несчастьями, мир, покоящийся на насилии и обмане, орудием которого были преступление и война, а движущей силой — безмерный эгоизм. Я все больше погружался в него, вполне сознавая и его разрушительную силу, и его очарование, но старался не покориться той всепоглощающей стихии, какой была жизнь; однако, чтобы устоять, я должен был поставить перед собой какую-то определенную цель, понимая, что из множества дорог могу выбрать только одну, что спастись — означает сберечь все лучшее, что во мне еще оставалось; но чем больше я стремился к этому, тем сильнее преследовало меня одиночество — вот тогда и родилась во мне потребность любви. Ни минуты не колеблясь, я связал себя с Эвой, но совершил при этом несколько серьезных ошибок, что и погубило меня: я сразу выложил на стол все свои козыри, открыл карты, игра перестала быть интересной, а время довершило остальное — исчезло ощущение новизны, один из самых сильных импульсов в чувствах женщин. При первых же попытках обмана с ее стороны я ушел, чтобы не стать по крайней мере смешным, признал свое поражение, и мы расстались, хотя мне все еще казалось, что я не смогу жить без любви. Я был похож на наркомана, который после первой дозы наркотика уже не в состоянии освободиться от пагубной страсти; разочарованный, ошеломленный горечью пережитого, я лихорадочно искал новый объект для своих нетерпеливых чувств. И до встречи с Эвой я в сущности знал, что любая попавшаяся на моем пути красивая девушка с равным успехом могла бы стать предметом моей неудовлетворенной тоски, но сейчас полностью осознал, что по-настоящему не любил ни Барбару, ни Кристину, ни Эву, а все страдания, которые испытывал, расставаясь с ними, были продиктованы безысходным ужасом перед надвигающимся одиночеством…
Из глубокой задумчивости меня вывел шум мужских голосов и стук подбитых гвоздями ботинок, приближались чьи-то шаги, и я, глядя на дверь, сунул руку во внутренний карман пиджака, где лежал пистолет. Шаги затихли, люди остановились у самой двери, явно пораженные тем, что она не только не заперта, но даже приоткрыта, как бы приглашает войти, — дверь должна была открыться лишь после условного сигнала, а тут вдруг видна широкая, величиной с ладонь, щель, через которую можно разглядеть часть заставленного столиками помещения, кусок размалеванной стены и поблескивавшее зеркало в позолоченной раме, но меня видно не было — я сидел левее и не попадал в их поле зрения. Меня так и подмывало расхохотаться, когда я представил себе, как они беспокойно переглядываются, ища в глазах друг друга молчаливое подтверждение своим неожиданно проснувшимся сомнениям и тревоге за судьбу этой встречи, я смотрел на дверь и ждал, когда наконец кто-нибудь из них решится ее толкнуть, и это, наверно, продолжалось бы еще долго, если бы из кухни не пришел Грегори. Послышался его зычный голос, смех Монтера, дверь распахнулась, и я увидел толпящихся в коридоре людей. Первым вошел Грегори с огромным подносом, уставленным тарелками, а следом за ним Монтер и его ребята.
Я встал им навстречу.
— Как дела, Хмурый? — весело воскликнул Монтер. — Сидел и думал, что сегодня нас не дождешься?
— Ты угадал.
— Мы попали в дьявольскую переделку, с таким трудом выпутались…
— Думаешь, еще успеем на поезд?
— Успеем.
— С грузом все в порядке?
— Да.
— Времени осталось немного.
— Успеем, — сказал Монтер. — Поезд, на котором ты поедешь, опаздывает самое малое на полчаса.
— Откуда ты знаешь?
— Только что справлялся у дежурного…
— Полицейских много?
— Где?
— На вокзале.
— Ни одного не видел.
Я молча кивнул. Глядя на Монтера, на его смуглое лицо и темные веселые глаза, в которых теплились дружелюбные искорки, я подумал, что, несмотря на кажущуюся сухость и неприветливость, Монтер на самом деле очень добрый и сердечный человек, к тому же еще мудрый и терпеливый, как отец; я улыбнулся ему, он обнял меня за плечи и промолвил:
— Дай-ка, наконец, я поцелую твою запретную физиономию…
— Целуй, старина! Если это доставит тебе удовольствие.
Все рассмеялись. Монтер расцеловал меня в обе щеки, я ответил ему тем же, а потом, выпустив меня из объятий, он тихо сказал:
— Познакомься с ребятами, дружище…
Они стояли возле нас полукругом, их было четверо, я поздоровался с каждым за руку, но никто из нас не произнес вслух ни своего имени, ни прозвища — познакомиться в нашем понимании означало лишь внимательно посмотреть друг другу в лицо и крепко пожать руку, а после завершения операции мы снова становились совершенно чужими и при любой случайной встрече обходили друг друга стороной, ничем, даже жестом, не выдавая своего знакомства.