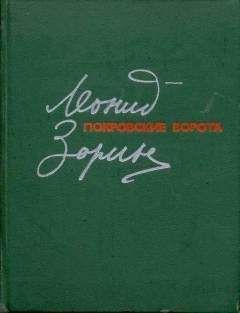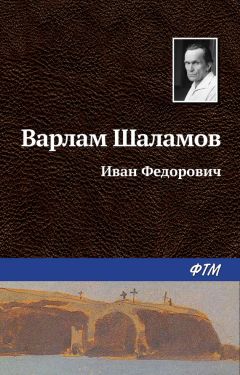Командир роты лейтенант Н.С. Анисимов отличался худобой. Был кадровым военным. На фронте с декабря 1941 года. В дни зимнего наступления прошел более ста километров. Вначале он был командиром взвода, а когда погиб ротный, его как наиболее опытного повысили в должности. Так с тех пор и командует ротой. Возвращаться на прежнюю должность взводного не собирается. Он коротко рассказал мне о положении дел на фронте и о нашей с ним роте. Когда сказал о количестве пулеметов, я ахнул: их всего-навсего шесть, в каждом взводе — по два.
— Негусто! — заметил я.
— А густо никогда и не было, — сказал с сожалением лейтенант. — Война вышибает пулеметики один за другим. К летнему наступлению, надеюсь, пополнят. Хоть по четыре пулемета на взвод, но дадут. А с двенадцатью пулеметами мы — сила!
Я смотрел на его усталое, безусое лицо и мог только дивиться его оптимизму, завидовать его несокрушимой вере во все лучшее.
— А вот жить нам в этом расчудесном погребе, пожалуй, не следует, — сказал я Анисимову. — Тут если не прихлопнут снарядом, миной или авиабомбой, то заболеешь от простуды.
— Все это верно, — согласился лейтенант. — Но командиры стрелковых рот живут еще хуже: день и ночь в окопе. Окоп для них и огневая точка, и КП. Немцы же блаженствуют: разместились в селе Ментелово, в избах. Нас разделяет с ними низина, протянувшаяся вдоль всей линии обороны. Эта низина — нейтральная зона. Но для нас она — самое гиблое место. Вся заминирована. И случись нашим пойти за «языком», в разведку, а потом и в наступление, будем подрываться на минах на каждом шагу. Ох уж эта нейтральная полоса!
Про эту низину Анисимов толковал мне потом не один раз; смотри, мол, не вздумай ногой ступить, взорвешься. Отсоветовал мне командир немедленно отправиться к пулеметчикам, узнать, как они там живут. Местность, сказал он, открытая, и в светлое время ходить туда опасно. Находились, правда, смельчаки. Пойдут, а обратно не возвращаются. И предложил мне ждать темноты.
До темноты было еще далековато. Ждать ее тут, в холодном, сыром погребе, не хотелось. И я вылез наверх. День был серый, скучный, во всей округе — ни одной живой души. Все сидят по своим окопам. Вот прогремел где-то близко наш станковый пулемет. В ответ ему, как перепутанные сороки, застрекотали немецкие автоматы. В диалог вмешалась наша пушка, пальнула по селу, занятому немцами... Все это так напомнило мне Карельский фронт. Но там — сплошной лес. Куда ни кинешь взгляд, всюду вековые сосны, березы. О, как же он опостылел мне, тот лес. За каждым деревом пряталась смерть.
А здесь — чистое поле. Нигде ни деревца, ни кустика. И мне казалось, что воевать здесь куда легче, чем было там, в Карелии. Увы! Где ни воюй, везде стреляют, везде убивают. А мы, политработники, к тому же мало смыслили в военном деле. Нас послали не боем руководить, а вести за собой бойцов, кричать: «Ура! За Родину! За Сталина! Вперед!» Что мы и делали.
В госпитале, в тылу, где я свободно, без опаски мог ходить в любое время суток, я отвык от опасности, и мне диковато было слышать, что к пулеметчикам я могу пройти лишь с наступлением темноты.
И вот ночь, но на переднем крае все бодрствуют. Все! До единого! Боже упаси, чтоб кто-то задремал, заснул. Все знают: темнота служит и нам, и немцам, в темноте лучше всего охотиться за «языком». Задремал — тут тебя и схватят. Быстро заткнут рот, свяжут руки и утащат к себе. Хватали наших. Но и наши не зевали, хватали немцев.
Находясь в тылу, я привык к режиму: день бодрствую, ночь сплю. На фронте распорядок дня, а точнее, суток, круто изменился. Ночь на дворе, а я не сплю. Я у своих бойцов, за которых отвечаю.
Я должен проверить, не заснул ли кто из них... кстати, пробраться к ним и в темноте оказалось непросто. Едва я отправился, как в разных местах застрочили немецкие автоматы. Того и гляди, попадешь под струю пуль. Но идти-то надо. Я иду и никак не могу прогнать из головы мысль: в карельских лесах, пусть и тяжелораненому, но мне удалось остаться в живых. А удастся ли вернуться живым отсюда? О, как бы хотелось выжить! Ведь мне всего только 26. Я и семью еще не успел завести.
Перед тем как отпустить меня к пулеметчикам, лейтенант Анисимов устроил маленький инструктаж:
— Немцы и ночью, — сказал он, — не дают нам покоя. Да в темноте не так опасно: на мушку не возьмут. Но ворон все же не лови. В случае чего ложись! И как можно быстрей. Прижимайся к земле и не выбирай места посуше. Ложись там, где над ухом просвистела струйка пуль.
Командир пульроты всячески оберегал меня и в дальнейшем. Шагу ступить не давал без дружеских наставлений, без предупреждения, где наиболее опасно и т. д.
Первый, с кем я познакомился, добравшись до огневых позиций пулеметчиков, был сержант Филипп Тараканов. Немолодой, грузноватый, представился временно исполняющим должность политрука роты. Побеседовали. Своим приятным тенорком Филипп Федорович рассказал мне о положении дел на «передке», познакомил с пулеметчиками. Мы как-то быстро с ним сошлись, и я взял его своим заместителем. Нас объединяло многое. И прежде всего то, что мы оба были коммунистами. Он — гораздо старше и опытней меня. До войны был председателем сельского Совета в Рязанской области и пропагандистом: вел кружок по изучению краткого курса истории партии. Иметь такого заместителя было и полезно для меня. От него я набирался опыта, во многом он служил для меня образцом. Я ни разу не слышал от него слов уныния, страха за свою жизнь. Зато он много говорил о предстоящих боях, о том, как заживем мы, когда избавим нашу землю от захватчиков.
Первую ночь на передовой я провел рядом с ним. Он знал, где расположен каждый пулемет. Знал людей, их достоинства и недостатки. Мы с ним прошли весь передний край, побывали у каждого пулемета. Тараканов всюду меня представлял. Ну а я старался хотя бы коротко поговорить с командирами взводов, выяснить, что им известно о противнике, каковы их планы действия, если завяжется бой. Все — и командиры, и бойцы — отвечали примерно одинаково: «Планы? Конечно, стрелять». Ответ вроде бы правильный, но, как выяснилось, слишком поверхностный.
— Вот ты остался один, — говорю бойцу. — У пулеметного расчета. — Товарищи твои погибли. Что ты будешь делать?
К моему удивлению, боец растерялся: он не знал даже, как подойти к пулемету, не говоря уже о том, чтоб вести из него огонь. К сожалению, таким оказался не он один. Спрашиваю: «Как же вы попали в пулеметчики?» — «Очень просто, — отвечают. — Послали. Иди, говорят, воюй! Вот я и воюю».
В роте было много новеньких, прошлой зимой мобилизованных. В боях они еще не были, учебы не прошли. Оружие, что в их руках, толком не знают. Как себя вести в обороне, в наступлении, представления не имеют. Горько было во всем этом убедиться.
Анисимов, когда я ему про все это рассказал, глаза на лоб выкатил. «Как? На передовой и стрелять не умеют? Быть этого не может!» Я назвал ему взвод, расчет. Даже две-три фамилии привел. Тут уж командиру роты деваться было некуда. В тот же день он собрал командиров взводов, потребовал, чтобы немедленно организовали изучение пулемета. Смущенным чувствовал себя и Тараканов. Он по-прежнему не отходил от меня, но был крайне неразговорчив. Похоже, он казнился, что сам не догадался сделать то, с чего начал я: проверить, опросить. Наконец произнес сквозь зубы: «Пригнали на фронт не защитников Родины, а пушечное мясо. С таким войском нам не то что до Берлина, а и до Ментелова не дойти». Я не мог с ним не согласиться. Подумал с тревогой: если и на других фронтах то же самое, то о каком же летнем наступлении тогда мечтать. Конечно, бойцам эту тревогу я не собирался внушать. С ними, как всегда, я говорил о несокрушимой силе нашей Красной армии и о моральном разложении гитлеровцев.
Скоро я сжился с ротой. Ночи и дни проводил среди бойцов. В погреб к Анисимову наведывался редко. Не мог понять одного: чем этот погреб так привязал к себе нашего командира роты? Однажды он упрекнул меня:
— Политрук, ты чего не приходишь? Иль тебе в моем жилище отдыхать кажется зазорным? Тоже мне, интеллигенция!
— Да, в сыром, холодном погребе отдыхать не хочу, — ответил я. — А если по-честному сказать, — боюсь: одно прямое попадание снаряда, и нас с тобой не будет.
Анисимов пошутил:
— А по-моему, нет еще такого снаряда, нет и такой пули, от которых мы с тобой погибнем! Живи здесь!
Однако, взглянув на два высоких тополя, росших рядом с погребом, он рассудительно произнес:
— Ориентир! Немцы его используют и саданут снарядом по моему КП.
В тот же день тополя спилили, разделали на бревна и соорудили из них над погребом перекрытие в один накат. Теперь КП стал надежнее, и Анисимов настоял, чтобы я обосновался рядом с ним. Часто заходил к нам и мой зам Филипп Тараканов.
Всех своих пулеметчиков, да их в роте не так уж и много было, я вскоре знал не только в лицо, но и по фамилиям, а иногда и по именам и отчествам. Привыкли и они ко мне, радовались каждому моему приходу во взвод. На лицах появлялась улыбка. Если кто-то оказывался в сторонке, кричали ему: