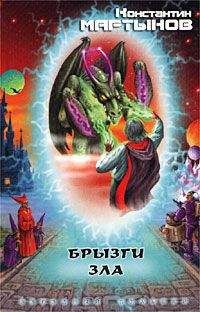— Здравствуйте, Маша, — поздоровался я, поравнявшись с крыльцом.
— Здравствуйте, — хлопнув ресницами, ответила она. — Но я вас не знаю.
— А я вас знаю. Мне о вас, Маша, Карпухин рассказывал.
— Значит, вы Валерий Климов? Да? — как мне показалось, обрадованно спросила Маша.
— Почему вы так решили?
— Потому что Гена обо мне может рассказывать только Климову.
— Ну вот и познакомились. Очень приятно.
— А мне вдвойне. Гена столько хорошего говорит о вас.
У нее красивые глаза. Большущие голубые глазищи, опушенные длинными, мохнатыми, будто искусственными, ресницами. Брови вразлет. Чуть вздернутый нос. Пухлые щеки. Голос с хрипотцой, но столько в нем милого обаяния…
— Вам не холодно, Маша?
— Холодно. Идемте в дом. Папа будет рад.
— Не думаю.
— Что вы! К нам всегда, если папа дома, по воскресеньям кто-нибудь приходит из роты.
— И Гена приходил?
— Нет, Гена не приходил. Идемте, — повторила она. — У нас гость, папин фронтовой товарищ. Идемте!
Я уже собрался категорически отказаться, как на крыльце появился старшина Николаев.
— С кем это ты, Машенька, заговорилась? А, товарищ Климов, — сказал он. — Ко мне?
— К вам, товарищ гвардии старшина.
— Тогда нечего мою дочь простуживать. Заходите в дом. А тебе одеться бы надо, коли на улицу выходишь, — попенял он Маше, — не весна красна на дворе.
Старшина провел меня в большую комнату. У окна в кресле сидел пожилой мужчина с обвислыми усами и смотрел телевизор. Показывали очередную серию про Лёлека и Болека [2].
— Знакомься, Ярема, с нашей сменой. Ефрейтор Климов, Валерий Иванович, — представил меня старшина своему товарищу. — А это мой фронтовой кореш Ярема Реперович.
— Я вас знаю, — сказал я, пожимая протянутую Реперовичем руку, — и с вашим сыном мы познакомились.
— С Петром?
— Так точно, с Петром.
— Тогда и я тебя знаю, — улыбнулся Реперович. — У Петруся, как вернулся с рыбалки, только и разговору было про тебя и про твоего коллегу… Позабыл, как его зовут…
— Карпухин, — подсказал старшина.
— … про твоего коллегу Карпухина, — заключил фразу Реперович.
— Выкладывайте, зачем пожаловали? — сухо спросил старшина. Упоминание Реперовича о Карпухине ему явно не понравилось, и он решил переменить тему.
Ясно, говорить о Генке не имело смысла.
— Пришел к вам за советом, товарищ гвардии старшина, — быстро нашелся я.
— Слушаю.
— Мы ведь на экскурсию едем? По местам боев?
— Точно так.
— И во Вроцлаве будем?
— Непременно.
— Товарищ гвардии старшина, нельзя нам с Петром Реперовичем встретиться?
— Зачем?
— Видите, какое дело, товарищ гвардии старшина, во Вроцлаве на воинском кладбище один наш родственник похоронен. Мы Петру прошлый раз рассказали об этом, он обещал могилу разыскать…
— Петру рассказали, а от старшины утаили?
— Он же во Вроцлаве живет…
— Так, так, — вмешался Ярема. — Петрусь говорил мне об этом. Там, кажется, твой брат похоронен?
— Никак нет. Карпухина старший брат. Николай. Танкистом воевал…
— Брат Карпухина? — переспросил старшина. — Не знал…
— Обязательно надо с Петрусем увидеться, — горячо сказал Ярема. — Уж раз Петрусь пообещал найти могилу — он сделает. Ты, Никола, позвони мне, когда во Вроцлав соберетесь. Я сыну сообщу, он вас обязательно встретит.
— Так и сделаем, — подытожил Николаев. — Передайте своему приятелю, Климов, что с Петром он встретится. А на кладбище наших воинов рота обязательно пойдет. Все у вас?
— Так точно. Разрешите идти?
— Не разрешаю. Сейчас пельмени будем есть. Машенька, — позвал он дочь, — что с пельменями? Солдаты проголодались…
— Потерпите немного, — отозвалась Маша.
— Много русских солдат полегло в боях за наш пястовский Вроцлав, — раздумчиво произнес Ярема. — Много русской крови пролито на его улицах…
— Это уж точно. Большой кровью, Ярема, скрепили наши народы свое родство. Наша с тобой кровушка тоже окропила польскую землю.
— Года два назад мне как радному Воеводской Рады Народовой [3] довелось встречать во Вроцлаве одного участника освобождения города от фашистов. Володю Мельника. Он приехал с Украины по приглашению городских и воеводских властей. Молодой еще человек, веселый такой, но все обратили внимание — походка у него тяжеловата. Отчего — спрашивать неудобно. Побывали в разных местах. На заводе Эльвро [4], в университете, в ратуше. А он все нас за город тянет, на Свидницкое шоссе. Поехали. Он сам остановил машину при выезде из города. Проворно выскочил из нее. И на пустырь. Ходит по нему кругами, все в землю смотрит.
— Вы потеряли тут что-нибудь? — спросил его первый секретарь воеводского комитета партии.
— Потерял, — отвечает.
— Да когда ж вы успели?
— В сорок пятом, в мае.
— А что потеряли-то?
— Сапоги, — говорит, — потерял. Новые совсем. Вечером нам их старшина выдал. А утром, когда меняли огневую позицию, фашисты начали обстрел из орудий. Один снаряд и разорвись прямо на огневой. Вот и потерял тогда сапоги. Новые совсем. И с обеими ногами вместе.
Нагнулся, задрал штанины до колен, постукал кулаком по протезам. Вот отчего, оказывается, походка-то у него была такой. А мне неловко стало. И не оттого, что не знал о столь тяжелом ранении нашего советского гостя, почетного гражданина Вроцлава, а оттого, что я, старый солдат, таскаю своего побратима вверх-вниз по каменным ступеням костела — мы ведь на колокольню взбирались! — по этажам ратуши. Да что там говорить, мы и в гостинице разместили Мельника на шестом этаже… А ему, Мельнику, хоть бы что. Все только шутит. Даже над своими потерянными в бою ногами потешался… — Реперович умолк, почему-то пристально посмотрел на меня. — В сорок пятом Володе Мельнику было всего восемнадцать, — добавил он все с той же раздумчивостью.
Вошла Маша. Застенчиво улыбнувшись, пригласила нас к столу.
— Не обессудьте, если не удались, — заранее извинилась она.
Вернувшись в казарму, я поспешил переписать историю солдата Мельника в свою тетрадь. За этим занятием и застал меня Генка.
— Где пропадал? — спросил он.
— Был приглашен на пельмени в один почтенный дом, маэстро.
— Потому и на обеде не был?
— Потому и не был.
— Что за почтенный дом, где угощают пельменями?
— Тебе это знать ни к чему. В том доме ты пока персона нон грата.
Генка вспыхнул.
— Ты был у Ник-Ника?
— Да, я был у Ник-Ника. Видел Машу. Разговаривал с ней как с тобой. Ел пельмени. Такой вкусноты отродясь не пробовал. Есть еще вопросы?
— Ну, вы даете, Климов!.. Ладно, вопросов пока нет. Пишите свои мемуары, не буду мешать.
Он направился к выходу из ленкомнаты. У двери остановился.
— Потом все сами расскажете, Климов. Без наводящих вопросов. У вас это иногда получается, Климов. Салют!
Кажется, барометр Генкиного настроения предсказывал перемену.
Проводили гвардии майора Ермашенко. Впрочем, проводили, наверное, не то слово. Из полка он не уехал, принял второй танковый батальон, а это в нашей же казарме — только вход с другого подъезда. Преемником Ермашенко стал гвардии старший лейтенант Шестов, наш взводный. Он вступил в должность как раз накануне поездки на экскурсию.
В тот день мы с Генкой были в суточном наряде: дневальными по роте. Так что первым, кто подал команду «Смирно!» при появлении нового ротного, был Карпухин.
Сейчас в роте никого: все в бане. И дежурный сержант Вахрамеев, и Генка ушли вместе со всеми. Я жду, когда прибежит Генка и подменит меня. Из ленкомнаты, кутаясь в шинель, вышел Селезнев.
— А вы разве не в бане, товарищ гвардии старший сержант?
— Знобит что-то, решил не рисковать, сляжешь, чего доброго, — и экскурсия тю-тю… А мне не ехать никак нельзя. Ротный сегодня инструктировал нас, взводных…
Саша с сегодняшнего дня большой начальник: на него возложили временное исполнение обязанностей командира взвода. Назначению он рад, и ему хочется говорить только об этом.
Прибежал Карпухин.
— Извольте пожаловать в Сандуны, Климов! — с порога выкрикнул он. — Я вам веничек оставил. У Вахрамеева получите. Дубовый.
— Что, и пар есть? — полюбопытствовал Селезнев.
— Всенепременно, товарищ командир взвода.
— Временный, временный, — довольно улыбаясь, сказал Селезнев. — И хорошо, что временный.
— Как понимать прикажете?
— А так, что не потяну… Ей-богу, не потяну, — добродушно пожаловался Саша. — Плеча-то всего два, а должностей? Командир танка — раз, замкомвзвода — два, секретарь комсомольской организации — три. А теперь и взводный. Разве такой груз осилишь двумя плечами?