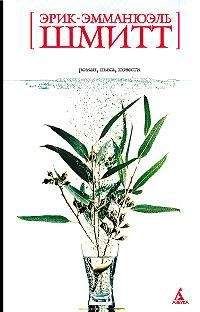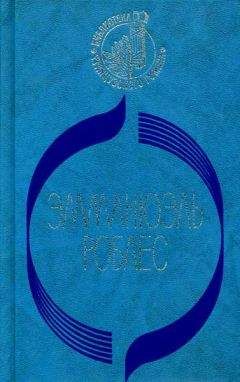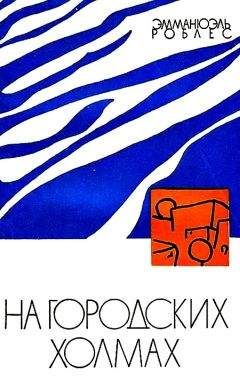Он счел излишним развивать эту мысль, но Филанджери показалось, что она подсказана полицейскому содержанием лежавшей перед ним бумаги. Он представлял себе озябших прохожих, автомобили, магазины, весь этот мир там, за окнами, за садом, заслонявшим улицу, далекий сейчас, как самая далекая планета. Кабинет, где он находился, был расположен, кажется, на четвертом этаже. Филанджери попал сюда из холодного подвала, в котором провел всю ночь еще с несколькими арестованными, а поднимаясь по лестнице, не сосчитал, сколько этажей прошел. Лежать в подвале пришлось на тонкой подстилке прямо на каменном полу, и теперь у него ломило поясницу. К счастью, на Филанджери был толстый свитер, и, хотя чемоданчик у него забрали, пальто ему все же оставили, и в этом заключалось его преимущество перед другими арестованными. Обращение с ним было не грубое. Очевидно, он попал в обычную полицию, а не в одну из таких, считавшихся более страшными организаций, как, например, фашистская милиция или итальянский эсэсовский легион.
— Кто звонил к вам в квартиру около одиннадцати часов?
— Спекулянт с черного рынка.
— Что он предлагал вам?
— Ничего. Увидев, что у меня гости, он сразу ушел.
— А вы его раньше знали?
— Нет. Он зашел ко мне впервые.
— Вы постоянно пользуетесь услугами этих людей?
— Да нет же.
— А сгущенное молоко и пачки сахара, которые нашли у вас на кухне?
— Я сказал, как они попали ко мне.
— Но ничем доказать не могли.
— Это легко проверить в Красном Кресте или в других организациях, я говорил об этом.
— А почему же вы объявили, что это был сосед, которому мешал шум из вашей квартиры?
— Боялся, как бы мои гости не подумали, что я поддерживаю связь со спекулянтами.
— Кроме того, у вас дома находилась одна подозрительная личность.
— Почему же подозрительная?
— Этот самый Марчелло Гуарди — вы даже не можете указать нам, где его разыскать.
— Я действительно не знаю его адреса. Но разве это обстоятельство бросает на него тень?
Филанджери говорил легко и свободно, и эта легкость ободряла его. Несмотря на то что он спал очень плохо, голова его работала безупречно. Он не поддавался страху, отчетливо видел, в каком направлении идет допрос, и сразу мог парировать наносимый удар.
— И к тому же вы в течение многих дней еще кого-то у себя укрывали. Мы располагаем информацией по этому поводу.
— Наверняка эта информация получена вами от моего соседа Линареса, который, с тех пор как овдовел, стал настоящим маньяком.
— То есть?
— Он часами торчит у решетки, разделяющей наш балкон. Дело в том, что у меня бывают натурщицы, которые иногда позируют обнаженными, и тут он дает волю воображению.
— Он слышал, как вы почти ежедневно после затемнения разговаривали с каким-то человеком.
— По вечерам из-за холода Линарес сидел дома, он не мог за мной следить и по-своему истолковал то, что не слишком хорошо расслышал, а это был всего-навсего мой радиоприемник. После того как уехала жена, я стал чаще слушать радио.
— Куда она уехала?
— К нашему сыну на месяц.
— В какое место?
— В Сполето.
«Если так пойдет и дальше, то я, пожалуй, выкарабкаюсь», — подумал Филанджери. На улице послышался автомобильный гудок, рассекший тишину, словно удар сабли по тяжелому занавесу. Полицейский небрежно перевернул страницу протокола и закурил сигарету. Потом нажал на кнопку и велел увести арестованного.
Когда Филанджери спускался по лестнице, он заметил, что комната, где его допрашивали, находилась не на четвертом, а на третьем этаже, и понял, что ошибся, приняв подвал за первый этаж, впрочем, это не имело значения. Он думал о низости Таверы и о том, как предупредить своих друзей, особенно Мари. Для его жены и сына было бы лучше, если б они не сразу узнали о том, что с ним произошло. Когда скульптор спустился в нижний коридор, он обнаружил, что его ведут не в подвал, где он находился прежде, а в другое, более просторное помещение с койками и даже с уборной вместо параши, которая стояла в подвале. Тут было еще и зарешеченное окно, выходившее в сад. Из шести коек только на одной лежал заключенный, безразлично отнесшийся к его приходу. Филанджери, как ни странно, обрадовался этому безразличию. Он закрыл дверь и тоже растянулся на койке. На стенах виднелось несколько надписей, чьи-то инициалы, недавние даты. Сосед, должно быть, спал. Холодный воздух струился из разбитого окна, принося свежий запах земли и мокрых листьев. На потолке сохранилась гипсовая лепка, а около двери — старинный камин с большим зеркалом в богато украшенной золоченой раме. Зеркало с позеленевшими краями отражало свет и чем-то напоминало озеро в далекой лесной чаще. Филанджери понял, что, войдя в комнату, он не сразу обнаружил зеркало, так как все его внимание привлек второй заключенный. Теперь он заметил на потолке сохранившиеся остатки пожелтевшей росписи. Значит, он находится в реквизированном особняке, а это помещение — одна из комнат с туалетом при ней. Он хотел пойти напиться из умывальника, и в эту минуту его сосед тяжело вздохнул.
— Здравствуйте, — сказал Филанджери.
Человек с трудом повернулся, молча взглянул на Филанджери блестящими глазами. Под носом у него скульптор заметил сгусток крови, издали походивший на плохо подстриженные, причудливой формы усы. Филанджери осторожно подошел к нему и увидел, что тот весь дрожит от лихорадки и не может ни говорить, ни двигаться. Филанджери хотел спросить, что с ним, и вдруг заметил его руки, почерневшие и опухшие пальцы, наполовину содранные ногти, превратившиеся в багровые надкрылья. Он присел на край койки, уже не думая о себе, сердце его исполнилось жалостью и вместе с тем чувством отвращения к тому, чем стал для людей этот мир, в котором могли так истерзать пытками это тело, а в застывшем взгляде поселить ужас и безумие, словно это был взгляд животного, не понимающего, почему его заставляют страдать. Своим платком Филанджери отер потный лоб несчастного. Что тут можно сделать? На что надеяться? В этой удушливой тишине он осознал, какие опасности угрожают ему самому, и наиболее страшная из них — потеря сил и энергии, которая для тех, кого он любил, была чревата трагическими последствиями. «Тиски», — прошептал несчастный. Ему изувечили пальцы железными тисками. Филанджери содрогнулся. И вдруг увидел свое отражение в зеркале, висевшем в другом конце комнаты: лицо утопленника. Он пошел в туалет. Раковина умывальника была разбита, кран наполовину вырван. За неимением стакана или какого-нибудь другого сосуда он набрал воды в пригоршню, но, пока дошел до койки своего товарища по несчастью, почти вся вода вылилась, и в руках у него осталось совсем немного. Неизвестный с душераздирающей жадностью припал к его мокрым ладоням. За окном было ясное мартовское небо, ветки деревьев зеленели, и Филанджери подумал, что его собственная жизнь так же хрупка, как эти маленькие зеленые почки. Всю ее целиком он посвятил служению красоте, он забыл о том, что достаточно пустяка, чтобы в человеке проснулся дикарь. Мать его была служанкой, отец рудокопом. Они умерли много лет назад, и сейчас, подумав о них, он увидел их снова на волнистых склонах Апеннин в пору своей юности. В его сердце пробудились нежные воспоминания: притаившаяся в траве лиса, дерево, раскачивающееся на ветру, птица, парящая в лучах солнца, колесо экскаватора и каскадом летящая из ковша вода, фарфоровая настольная лампа, льющая по вечерам успокаивающий, дающий защиту свет. Он не умилялся, вспоминая беззаботного ребенка, каким некогда был, но находил в этих воспоминаниях средство против ненависти и отчаяния, ибо перед этим искалеченным пытками телом, перед взглядом этого человека, вобравшим боль тысячелетий, главным было не сдаваться, остаться самим собой, сохранить верность тому полному жизнелюбия существу, которое он в себе воспитал. «Пить», — простонал несчастный, Филанджери опять подошел к крану, набрал в ладони воды и понес ее, словно дар, роняя по пути сверкающие, как бриллианты, капли.
Часом раньше от Джины, которой сказал об этом ее любовник, Мари узнала, что скульптора арестовали. Мари тут же побежала на верхний этаж и ворвалась в кабинет Таверы. В ответ на ее упреки Тавера насмешливо улыбнулся, не переставая раскачиваться в кресле за столом, заваленным бумагами.
— Ему достаточно назвать того типа, который был у него. Почему он его покрывает?
Голова Таверы над жирной грудью мерно, почти автоматически покачивалась то вправо, то влево.
— Но сейчас, — сказала Мари, — поторопись вызволить его из тюрьмы.
— Да, моя красотка. В гневе ты еще пленительней!
В его прищуренных глазах была злоба и какой-то безумный блеск. Чуть откинувшись назад, он сосал кончик карандаша и наблюдал за девушкой с хитрым и торжествующим видом. Она знала, что Тавера — сексуальный маньяк, что он водит к себе проституток. Организация Сопротивления поручила ей следить за его официальной перепиской, и там она постоянно находила выражения глубочайшей почтительности и преданности начальству и готовность выполнить любой приказ. На столике сзади стояла фотография молодой женщины с тонкими чертами лица, но никто, даже секретарша Таверы, не знал, кто она такая — настоящая его любовница или вымышленная. Злые языки говорили, что, сняв рамку, можно увидеть напечатанные на фотографии слова: «Воспроизведение воспрещается. Все права принадлежат издательству» — и название крупной издательской фирмы.