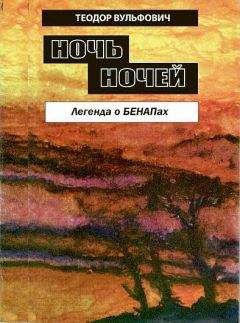Наступил рассвет, и появился офицер связи на броневичке (не Токачиров, а совсем другой) — доставил приказ о возвращении в расположение батальона. Готовность не снималась, но было приказано привести всю технику в боевое положение. Срочно. И ждать дальнейших распоряжений. В приказе не было указания на то, чтобы всем перестаравшимся, перепутавшим и перетрусившим стирать штаны, но это предполагалось. Были указаны два военачальника, полностью опозорившиеся в эту ночь… «Слава Аллаху и всем святым», разведбат не упоминался.
Вроде бы все успокоилось, улеглось, а к полудню появился приказ комбата: построить в лесу учебный класс на сорок мест; готовность — к отбою. Плотников собрали со всех рот и подразделений, рубили кругляк, кололи, пилили, тесали, заколачивали колья в землю — одним словом, к наступлению темноты трехрядный класс был готов: каждая парта на двоих, со скамейками (правда, без спинок — но не до жиру). Место для преподавателя и даже подобие классной доски из листа некрашеной фанеры, с полочкой для тряпки и мела. А после ужина еще приказ: «Всем офицерам, без исключений! Назавтра с 10–00 начать обучение топографии; тема: «Движение пеше по пересеченной местности в ночное время» — «подготовка документации и проведение практических занятий… Сдать зачет обязательно и занести в аттестационные документы…» Командир взвода управления назначался преподавателем этой школы, и ему было предписано подготовиться к занятиям.
На следующее утро, ровно в 10–00, все офицеры в состоянии некоторого недоумения и глубокого недосыпа сидели на сырых скамейках, за новенькими партами и ждали невесть чего. Даже не шутили. Часовые, специально отряженные на охрану этого торжества, паслись поодаль и никого через лужайку не пропускали… Взводный глянул на часы и уже хотел начать занятие, как Курнешов загадочно тихо произнес: — Придется обождать.
И тут же раздалась команда дежурного по части:
— Товарищи офицеры! — все поднялись. Командир батальона приближался к поляне. Он успел жестом усадить всех на свои места, решительно прошел между рядами и демонстративно опустился на первую свободную парту справа. Положил фуражку на стол, сильно двумя руками потер бритую голову и что-то сказал начальнику штаба. Тот проговорил:
— Можете начать занятие.
* * *
В старой аттестации появилась пара новых строк — после зачеркнутых слов «вспыльчивый, бывает груб с начальством» было аккуратно, каллиграфическим почерком батальонного писаря выведено: «Несмотря на отдельные дисциплинарные срывы, является одним из самых грамотных офицеров батальона». В лексиконе гвардии майора Беклемишева сии слова являли собой высшую похвалу.
Взводный небрежно заметил:
— И на том спасибо. А могли окунуть в трибунал!..
Боя-то ведь так и не было — одни метания, беготня, ошибки, видимость преступлений и… сомнительное моралите. А у всей этой кутерьмы был все-таки свой смысл. Виноватыми и подмоченными считали себя почти все, кроме наглецов и дураков. Эти обычно считают виноватыми других. А тут взводному лучше было бы вспомнить капитана Ниточкина, одного из тех, кого почти никогда не вспоминают: тишайшего преподавателя топографии в военном училище на северной окраине Симбирска, переименованного в результате вселенского недоразумения в угрожающий холодом семейный город. Без таких людей, мы имеем в виду, конечно, капитана Ниточкина, не было бы коренной России и ее сути… Но об этом пусть другие, а мы о самом капитане…
Зима сорок первого — сорок второго годов выдалась лютая — они почему-то всегда у нас «выдаются», трудно понять только кем и кому?.. А в Симбирске морозы стояли яростные и с ветерком. Кормили курсантов все хуже и хуже, топить не топили, а поддерживали некую молочность батарей — с температурой молока, только что вынутого из ледникового погреба, чтобы только трубы и батареи не полопались. А они полопались, подлые!.. Надышать, даже батальоном полного состава, не удавалось — в казармах минус три — минус четыре, на стенах и на высоченных потолках устойчивый слой сверкающего инея, который уже ни при каких колебаниях температуры не оттаивал, и по нему (изумрудному!) можно было пальцем писать какие угодно слова, что курсанты и делали, чуть согреваясь сами и чуть-чуть обогревая разными речениями и именами своих старшин.
Класс топографии был единственным помещением во всем армейском дореволюционном строении, где было тепло. Какая-то заветная труба, доставляющая калории неведомому кумиру, случайно пролегла через это небольшое классное помещение… Действительно, тепло было еще только в столовой (но сквозняки там гуляли такие, что их можно было без преувеличений именовать тайфунами). А вот в классе топографии… На всю комнату огромный «ящик с песком» — узнаваемый макет строений и рельефа местности, идущей на север от города на Волге. Очень ладный макет городка самого училища и ближайших окрестностей, дороги, линии связи, лесной массив, крутой обрывистый берег реки. Даже маленький домик лесника… Курсанты располагались на скамейках вокруг ящика, не теряя ни секунды, по-кошачьи блаженно прикрывали глаза, согревались и тут же засыпали. Ни голос капитана, размеренный и вкрадчивый, ни отсутствие спинки у скамеек, ни угроза дисциплинарных взысканий не были помехой этому блаженству. Спать научились в любой обстановке, в любом положении: сидя, не облокачиваясь (пожалуйста!), подложив обе ладони под колени — получалась устойчивая трапеция, если еще научиться не закрывать при этом глаза, а мастера умели вытаращить их на преподавателя… И спи, пока подсознанием не услышишь собственную фамилию. Тут кричи, как оглашенный: «Й-й-а-а!» — и вскакивай. Дальше действуй по обстоятельствам — страдающие бессонницей, может быть, что-нибудь подскажут. А в крайнем случае нагоняй и «пара», «но ведь двойка не единица, ее тоже заслужить надо!..» (курсантский юмор). Еще в клубе спали на любом собрании или сборе. Научились спать даже в строю, на ходу — да-да, во время движения колонны — тут главное, чтобы направляющий правофланговый не заснул, а то вся колонна может потерять ориентацию и при легком повороте дороги, не сворачивая, уйти далеко в поле и очутиться в первой канаве… Однажды взвод ушел в открытое поле, а комвзвода, как сомнамбула, один шкандыбал по дороге, цепляя нога за ногу, и спал тоже… Умудрялись спать даже на посту, по стойке смирно, опираясь на винтовку, — замечательное устройство для обретения равновесия!..
Вот где никогда не спал наш будущий взводный, так это на занятиях по топографии. Никогда. Ему нравились эта чарующая игра в знаки и общение с самой землей, общение со всем тем, что располагается на ее поверхности… Был случай, когда из всего курсантского взвода не спал он один. И покладистый капитан Ниточкин всю лекцию изложил ему одному. И только ему задавал контрольные вопросы. Капитан, казалось, даже привык к такой расстановке сил и в конце занятия, после общей команды «Встать!» и перед командой «Занятие окончено», добавлял, доверительно глядя на своего единственного слушателя:
— Поделитесь знаниями с товарищами курсантами. А они поделятся с вами своими сладкими сновидениями, — словно цитировал чужую фразу (по всей видимости, так выговаривал это словосочетание его преподаватель топографии).
Надо прямо сказать: крепкими топографическими знаниями взводный был обязан терпению и задумчивой скромности капитана Ниточкина. Это он научил его полюбить не только предмет, но и саму карту. Не только саму карту, но и ту местность, которую она изображала. И так называемая местность начинала отзываться на его любовь — шептала ответы, подсказывала разгадки, а порой творила чудеса… Это капитану Ниточкину, крестьянскому сыну (и по облику, и по говору волжскому, и по характеру), дали кличку «Граф» — от фонетического родства с его главным словом «ТОПОГРАФИЯ». Так вот этот вантей из вантеев по прозвищу Граф учил их вместо линий, цифр и закорючек в одно мгновение обнаруживать настоящий рельеф с подъемами, спусками, болотами и строениями. А для самого капитана это, казалось, была вся жизнь, обозначенная символами на листе карты…
Постепенно обнаружилось, что всем этим премудростям взводный обучился: интересно было сличать карту с местностью, словно ты уже здесь когда-то бывал, очень давно, и теперь только проверяешь: все ли так же сохранилось или что-нибудь изменилось?.. Менялись обычно не предметы и приметы, а размеры. И чаще всего строения превращались в развалины, а лесок — в горелую или вырубленную пнёвую поляну… Нет, командир взвода не забывал капитана Ниточкина. Сколько раз, выбираясь из очередной передряги, произносил про себя слова благодарности, обращенные к нему. К Графу… Это он, капитан Ниточкин, никакой не граф, если не знал, то чувствовал: в нашей просторной стране пути распространения знаний неисповедимы.