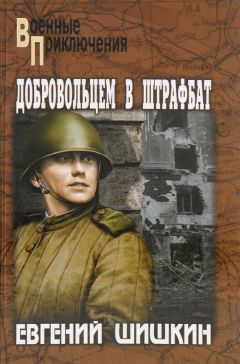Что же это на свете делается? Волохов власть клянет, царей и вождей то трутнями, то жуликами считает. Умник Бориславский дураком себя готов признать. Кузьма вламывал всю жизнь, а никакого почета — как убивец мрет в неволе. Доктор Сухинин красоту обхаял. Любовь болезнью назвал. Послушаешь, поглядишь — так ничего святого и ясного на земле нету. Во всем и везде каверза да обман. Выходит, что кому-то из людей жизнь не для радости, а для маеты дается. Если так, то и смерть не есть горе, а избавление от мук Ведь и он, Федор, не так давно подумывал непонарошку ступить на запретную, расстрелы 1ую межу под дуло часового.
Жизнь дома, на свободе, теперь казалась какой-то пригрезившейся, чужой. Не верилось, что мог самозабвенно плясать топотуху в кругу девок под резвую гармонь Максима; хохотать до колик с плясуном Паней; щупать девок, задирать юбку Дарье на душистом сеновале и, наконец — обнимать и целовать Ольгу.
Об Ольге он вспоминал со сладкой мукой. Нетерпеливая тяга к ней живо пульсировала в нем под тяготой тюремных обстоятельств. Он не отрекся пожизненно от Ольги, просто старался не бередить это. Словно бы короста на душе, которую трогать не следует, пусть она даже зудит, тянет, ждет прикосновения. Тронешь ее — опять закровоточит рана. Потом лечи ее, пока не обрастет очередной коростой. Безбожный доктор Сухинин все страдания человека рассудил по-своему, вывел пагубные диагнозы и причину им сыскал — красоту «Неужель он прав?» — спрашивал Федор себя и всех людей разом… А что есть судьба? Случай? Дурной или счастливый? А вдруг простоватый-то Матвей больше всех знает и зорче всех одним глазом жизнь видит? Судьба, говорит, это вера. Выходит, моя судьба в Ольге заключена? Все в ней — и счастье мое, и несчастье? Нет, признать и подчиниться этому не хотелось. Не хотелось, чтобы впредь Ольга распоряжалась им — пусть и не прямым приказом, а посредством посторонней злой силы. Отрезать бы ее от себя. Забыть! Но как забудешь? Да и жалко. Не курва же она…
На бессонном топчане каморки Федору мнилась Ольга. Однажды на морозе, дожидаясь ее на краю села, Федору прихватило с подветренной стороны щеку. Прибежавшая с тепла Ольга растирала снегом его побелевшую щеку, дурачась норовила сыпануть снегу ему за шиворот, прикладывала нутряной стороной свою варежку к его лицу. Потом посерьезнела, прижалась. Своей щекой приложилась к его щеке. Они долго стояли так, обнявшись, заслоняя друг друга от холодных порывов ветра. Откуда ни возьмись — бабка Авдотья. Нечаянно подсмотрела их ласку, разулыбалась.
— Дело молодое, любовное. Не воруете, свое берете. Чё стыдиться? — сказала она, сглаживая смущение неожиданной встречи.
Бабка Авдотья остановилась с ними побалакать.
— Шаль тебе, бабусь, надо подправить, — сказала Ольга и сама подправила клинышек старухиной шали, вскоробившийся на вороте стеганки.
— Ладошка у тебя, девка, добрая, — благодаря, сказала бабка Авдотья: чего-то заметила в руке Ольги. Не напрасно старуха имела славу знахарки и ворожеи.
— Чем она добра? — рассмеялась Ольга.
Бабка Авдотья взяла ее руку, развернула ладошкой кверху, указала на длинную морщинку-веточку, назвала «линией жизни».
— Глянь, какая хорошая она у тебя! Долгая. К самому запястью вытянулась. Много годов проживешь, девонька…
Федор тоже глядел в ладонь Ольги, на длинный мягкий изгиб жизненесущей морщинки.
Он и теперь, точно наяву, видел этот рисунок на ладони Ольги. И помнил все. Даже теплый, уютный запах ее шубных варежек.
Но как будто в темном окошке лагерной санчасти мелькнуло крылом зловещей птицы светлое пальто Савельева, которым тот укрывал Ольгу за сараем. Федор опять жалил себя непереносимой обидой, негодовал на Ольгу, выстуживал тепло и гасил свет воспоминаний. В мстительный противовес Ольге переключался на Дарью, безотказную утешливую подругу. Да ведь не любил он ее! Но по жизни-то вышло, про Дарью у него самые легкие безмрачные думы.
Оконный проем уже совсем по-ночному стал темен. Месяц сдвинулся за раму — не видать. Печально синеет в глубине неба звезда. Раскорякой чернеет сторожевая вышка. Долго еще ей чернеть! Пока и года сидки не прошло из четырех приговорных лет.
— Матерь родна! Да мы ж горим! Пожар! Эй, мужики, вставай! Коридор-то весь полыхает!
Ночной клич наделал переполоху. Больные панически хватали шмотье, одеяла, суматошливо ломились в двери палаты. Шарахаясь от горящей стены коридора, вываливались на улицу. Потемки санчасти и заоконная ночная темь все сильней озарялись факелом пожара.
Федор разлепил веки и, не поняв еще, что за шум и хлопотня вокруг, захлебнулся чадным воздухом. Горький дым висел в каморке, пробиваясь сквозь щели. Жаром тянуло со стороны коридора и с потолка. Багровый отсвет плескался в окошке. Федор скорчился, унимая кашель, на ощупь сунул ноги в валенки, похватал ватник и шапку, выскочил из каморки в палату. Он тут же столкнулся с кем-то, выругался. Несколько человек колготились в палате, что-то выкрикивали, пытались спасти жалкий скарб. Огонь столбом поднимался по косяку двери, полз на внутреннюю стену палаты. Кто-то одеялом тщетно пробовал сбить пламя — пахло паленым, дым делался более едуч. В полупотьмах, в углу, на полу за печью, какой-то человек в белой нательной рубахе взмахивал руками, кричал, но голос его был непонятен в общей неразберихе и гомоне. Огонь колебался, и казалось, вся палата с мечущимися людьми и тенями шатается, как корабль в шторм. Федор спихнул койку с дороги, сунулся в коридор. Здесь жгло глаза: огонь оплеснул уже всю стену. Что-то трещало в полыме в каптерке, жаркий густой дым валил из кладовой. В потолочных щелях тоже брезжило красным. Прикрывая локтем лицо, Федор выбрался на улицу к шумливой, полураздетой и раздрызганной толпе.
Лагерная колотушка ударами в железину чеканила «тревогу». Из-под крыши валил дым, алой волной выбивался огонь. Снег на железной кровле таял, шипел, от него поднимались серые клубы. Огонь жарил снизу, с чердака, и красное зарево все смелей рвалось наружу, охватывая верхние венцы сруба. Красные всполохи играли отражением в испуганных глазах людей, выбравшихся из санчасти. Зазвенело выбитое стекло в бельевой, кто-то заорал внутри и стал выкидывать из окна больничную утварь: одеяла, стопки простыней. Подбежали военные из охраны. Дежурный по лагерю офицер отдавал бестолковые распоряжения обескураженной толпе. Говорили громкими возбужденными голосами:
— Огонь по вышке пошел. Там матрасы с соломой. Как порох…
— Печь проворонили. «Буржуйку» в коридоре.
— Искра через худое колено прошла. Полыхнуло.
— Спохватились поздно. Ночь уж, спали все.
— Куда дневальный-то глядел, сволочь?
— Кривой Матвей дежурил. Он растоплял.
— Раззявы! Чего стоите? Ведра тащите! Воды!
— Морозно… Из пожарной бочки воду слили. А ведрами разве…
— Заткнись! Делай, чего приказано!
— Эк, как трещит!
— С жару стекла лопаются.
— Дотла сгорит.
— Нечего рыпаться — не спасти.
Растерявшийся в суматохе, потрясенный внезапностью пожара, Федор только сейчас и опамятовался.
— Сергей Иванович! Сергей Иванович! — закричал он и кинулся назад в дом, нырнул в сизый, прорезанный языками огня туман коридора.
Доктор Сухинин ночевал в комнатке, смежной со своим кабинетом. Эту половину дома пожар пощадил, бушуя на другой. Подползал сюда медленно. Федор ворвался во врачебный кабинет, все еще неся на устах крик «Сергей Иванович!», и сразу наткнулся на Сухинина. Доктор без панической спешки, даже не по моменту слишком аккуратно вынимал из шкафа коробки со шприцами и медицинскими железками, медикаменты и толстые книги, укладывал их на расстеленный на столе халат.
— В перевязочную! — кивнул он Федору. — Собирайте инструмент! Все, что попадется.
Его спокойствие Федора отрезвило. В перевязочной он первым делом выхлестнул табуреткой стекла в обеих рамах, раскинул на полу простынь, стал сгребать в нее коробки, склянки, кузовки, вату с бинтами. Дым из коридора сквозняком тянуло в разбитое окно, глаза слезились. С крыши срывалась капель: огонь шел поверху, полз по сухим чердачным подпоркам, подрешетнику, жарко лизал потолок, кормился пылкой соломой злополучных матрасов. Федор перетащил куль с медицинским богатством во врачебный кабинет, собирался вернуться в перевязочную, чтобы повыкидывать в окно какое-нибудь оборудование и мебелишку, но на пороге его чуть не сбил с ног Матвей.
— Не моя вина, Сергей Иваныч! Я печку доглядывал. Прогорела. Я уж потом… Не моя… — Матвей громко дышал, одинокий глаз на его лице светился ужасом и раскаянием, губы на длинной челюсти прыгали.
— Из палаты все выбежали? Проверяли? — строго спросил Сухинин.
Матвей опешил:
— Да кто ж их считал?
— Так пересчитайте! По списку проверьте!