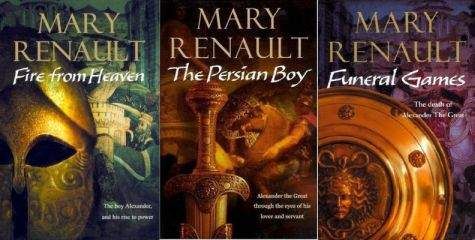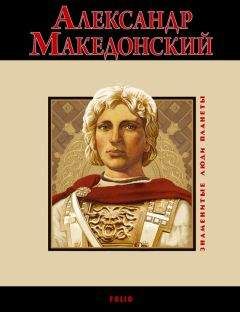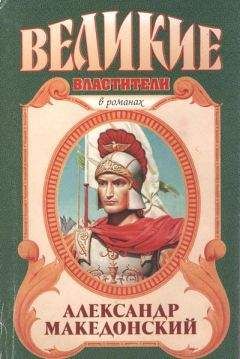— Вот он!
Первым чувством Демосфена была слепая ярость. Он едва не взорвался от скопившейся зависти. Но надо сохранять спокойствие, надо думать, надо двигаться шаг за шагом… Значит, вот кто предатель! Эсхин! Ничего лучшего нельзя было и представить себе. Но нужно иметь хоть какое-то свидетельство, какую-то зацепку; явное доказательство — это уж слишком, об этом и мечтать нечего…
— Это Эсхин, сын Атромета, — сказал он. — До недавнего времени профессиональный актер. Он и делает актерские упражнения для голоса. В гостевых покоях тебе каждый скажет, кто он. Спроси, если хочешь.
Мальчик медленно переводил взгляд с одного из них на другого. Пунцовый румянец пополз от груди до самого лба, окрашивая чистую кожу. Он не произносил ни звука.
Ну, — подумал Демосфен, — теперь мы сможем узнать что-нибудь интересное… Но одно было совершенно несомненно — эта мысль ворвалась в сознание, несмотря на то, что он обдумывал свой очередной ход, — несомненно было, что он никогда в жизни не видел такого красивого мальчишки. Теперь, когда он покраснел, казалось, что вино налито в алебастровый сосуд и смотрится на просвет. Желание стало неотвязным, мешало думать. Потом, потом… Сейчас, быть может, всё зависит от того, удастся ли ему сохранить ясность мыслей. Он узнает, кто хозяин этого мальчишки, и быть может его удастся купить. Кикнос давно уже утратил красоту; он полезен — но и только… Надо будет действовать осторожно, найти надёжного агента… Но сейчас необходимо расколоть мальчишку, пока он не оправился от первого замешательства, сейчас нельзя думать ни о чем другом…
Демосфен сказал резко:
— А теперь говори-ка правду, не вздумай лгать. Зачем тебе нужен Эсхин? Давай, говори всё. Я уже достаточно много знаю.
Наверно, пауза получилась слишком долгой: мальчишка успел собраться и смотрел теперь без тени смущения, даже дерзко.
— Вряд ли ты что-нибудь знаешь, — сказал он.
— Ты пришел к Эсхину. С чем ты пришел? Давай, рассказывай! И не смей лгать!
— Чего ради я стал бы лгать? Я тебя не боюсь.
— Это мы посмотрим. Так чего ты от него хочешь?
— Ничего. И от тебя тоже.
— Ах ты, мерзавец бесстыжий! Не иначе, хозяин тебя балует и портит…
Он продолжил эту тему, пользуясь случаем, чтобы добиться чего-нибудь для себя, — и похоже, мальчик понял; если не слова по-гречески, то, во всяком случае, его намерения.
— Прощай, — сказал он коротко.
Это не годилось.
— Подожди! Не убегай, пока я не закончил свою речь. Кому ты служишь?
Невозмутимо, с легкой улыбкой, мальчик посмотрел на него и ответил:
— Александру.
Демосфен нахмурился. Похоже, среди македонцев из хороших семей Александром зовут каждого третьего. А мальчик тем временем помолчал задумчиво и добавил:
— И богам.
— Ты зря транжиришь моё время, — воскликнул Демосфен, вновь охваченный своими чувствами. — Не смей уходить. Иди сюда!..
Мальчик уже отворачивался — он схватил его за кисть. Тот отодвинулся на всю длину руки, но вырваться не пытался. Только смотрел. Глубоко посаженные глаза сначала расширились, а потом, казалось, посветлели из-за сузившихся зрачков. Он сказал очень медленно, на очень правильном греческом:
— Забери с меня свою руку. Иначе ты скоро умрёшь. Это я тебе говорю.
Демосфен отпустил. Ужасный мальчишка, от него страшно становится! Ясно, что это фаворит какого-нибудь очень влиятельного вельможи. Угрозы его, разумеется, мало что стоят, но это Македония… Мальчишка был свободен, но не уходил, задумчиво разглядывая его. И у него в животе зашевелилось что-то холодное. Вспомнились засады, яды, ножи из-за угла в спину… К горлу подступила тошнота, и по спине поползли мурашки. А мальчишка стоял неподвижно и глядел на него из-под копны спутанных волос. Потом отвернулся, перепрыгнул через низкую стену — и исчез.
Голос Эсхина из окна то гудел в самом низком регистре, то возносился — ради эффекта — тончайшим фальцетом. Подозрение, только подозрение! Ничего такого, что можно было бы пришпилить к обвинительному акту. А болезнь из горла добралась уже и до носа… Демосфен отчаянно чихнул. Просто необходимо выпить горячего отвара, даже если его приготовит какой-нибудь здешний невежда. Сколько раз говорил он в своих речах о Македонии, что в этой стране никогда ещё не удавалось приобрести ничего хорошего, даже порядочного раба.
Через окно вливается полуденное солнце, согревая комнату и украшая пол кружевом теней от распускающихся листьев. Олимпия на своём позолоченном кресле с резными розами, под локтем у неё кипарисовый столик, а сын сидит на низком табурете возле её колен. Зубы у него сжаты, но время от времени сквозь них прорывается едва слышный стон нестерпимой боли: она расчёсывает ему волосы.
— Самый последний узелок, дорогой мой.
— А ты не можешь его отрезать?
— Чтобы ты обгрызанным стал?.. Ты хочешь выглядеть, словно раб?.. Если бы я за тобой не следила, ты бы уже завшивел, честное слово. Ну всё. Закончили. Поцелую тебя за то, как замечательно ты держался, и можешь есть свои финики. Только платье моё не трогай, пока у тебя руки липкие. Дорис, дай щипцы.
— Они ещё слишком горячие, госпожа. Ещё шипят.
— Мама, не надо мне волосы завивать! Никто из мальчиков так не ходит…
— Ну а тебе-то что? Ты должен вести других, а не следовать за другими. Разве тебе не хочется быть красивым для меня?
— Возьми, госпожа. Теперь уже не обожгут.
— Замечательно. Ну, теперь не вертись, а то ошпарю. Я это делаю лучше цирюльников, правда? Никто не догадается, что кудри не настоящие.
— Но они ж меня видят каждый день! Все, кроме…
— Сиди спокойно. Что ты сказал?
— Ничего. Я думал про послов. Ты знаешь, я наверно всё-таки надену украшения. Ты была права, перед афинянами надо одеться по-настоящему.
— Конечно! Мы сейчас что-нибудь подберём. И одежду подходящую.
— И потом, у отца ведь тоже будут украшения.
— О, да! Но ты их носишь лучше.
— Я только что Аристодема встретил. Он сказал, я так вырос, что он едва меня узнал.
— Обаятельный человек. Надо пригласить его сюда. Мы сами это сделаем, без отца.
— Ему надо было уходить, но он представил мне ещё одного бывшего актёра, его зовут Эсхин. Он мне понравился, рассмешил меня.
— Его тоже можно пригласить. Он из благородных?
— У актёров это всё равно. Он мне рассказывал о театре. Как они ездят, и ещё — как избавляются от человека, с которым плохо работать.
— Надо быть поосторожнее с этими людьми. Надеюсь, ты не сказал ничего лишнего?
— Нет конечно. Я расспрашивал о партии мира и партии войны в Афинах. Мне кажется, он сам был в партии войны, но мы оказались не такими, как он себе представлял. Мы хорошо с ним поладили.
— Не давай никому из этих людей возможности похвастаться, что его как-то выделили из остальных.
— Он хвастаться не станет.
— Что ты имеешь в виду? Он что, фамильярничал с тобой?
— Нет конечно. Мы просто разговаривали, вот и всё…
Она запрокинула ему голову назад, чтобы завить локоны над лбом. Когда её рука оказалась на уровне его губ, он поцеловал её. В дверь постучали.
— Госпожа, царь велел сказать, что он уже вызвал послов. Он хочет, чтобы принц вошёл вместе с ним.
— Передай, сейчас будет.
Она огладила ему волосы, локон за локоном, и оглядела его. Ногти подстрижены, только что выкупан… Сандалии с золотыми бляшками стоят наготове… Она подобрала ему хитон из шафрановой шерсти, с каймой, которую сама вышивала в пять цветов, красную хламиду на плечо и большую золотую булавку. Поверх хитона начала застегивать пояс с золотой филигранью. Она не особо спешила: если одеть его слишком рано, то ему придется дольше быть с отцом, ждать послов вместе с ним.
— Ещё не всё? — спросил он. — Отец-то ждёт!..
— Он же только что за ними послал.
— Наверно, они уже подошли.
— Тебе ещё надоест слушать их занудные речи.
— Что поделаешь. Надо же учиться, как делаются дела… А я Демосфена видел…
— Того самого? Великого Демосфена? Ну и как он тебе понравился?
— Совсем не понравился.
Она посмотрела на него, отвлекшись от пояса, удивлённо подняв брови, и заметила усилие, с каким он повернулся к ней.
— Отец говорил мне, но я не верил. Однако он оказался прав.
— Надень плащ. Или хочешь, чтобы я тебя одевала, как маленького?
Он молча накинул плащ на плечо; молча, непривычными пальцами, она стала втыкать иглу пряжки в ткань, а та подалась слишком легко. Он не шелохнулся. Она спросила резко:
— Я тебя уколола?
— Нет.
Он встал на колено завязать сандалию. Ткань соскользнула с шеи, и она увидела кровь.
Она прижала к царапине полотенце и поцеловала завитую голову, чтобы помириться до того, как он уйдёт к её врагу. Когда он пошёл к Залу Персея, боль от иглы скоро прошла. А другая боль держалась так, словно он с ней родился. Он не мог вспомнить такого времени, когда бы не испытывал её.