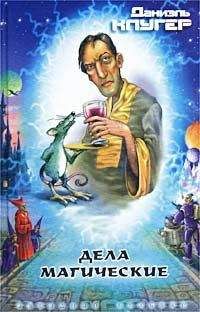Когда ученики рабби Шейнерзона послушно отправились во двор, мы вошли внутрь. Обиталище нашего раввина, одновременно и жилище, и ешива, представляло собою длинную и узкую комнату, образованную, по-видимому из двух в результате сноса простенков. С одной стороны шли двухъярусные нары — восемь пар, в дальнем углу располагался небольшой стол, вокруг которого стояли несколько ящиков, заменявших табуреты. Реб Аврум-Гирш сделал приглашающий жест и занял один из ящиков. Мы последовали его примеру. Реб Аврум-Гирш вопросительно взглянул на моего друга.
— Как вы уже поняли, господин Шейнерзон, я пытаюсь отыскать убийцу режиссера Макса Ландау. А доктор Вайсфельд мне помогает. Должен сказать, что, хотя Юденрат позволил нам этим заниматься, я не имею права никого принуждать к даче показаний. Если вы не хотите говорить со мною — можете не говорить.
— Вы действительно рассчитываете найти преступника? — реб Аврум-Гирш прищурился, отчего его правый глаз почти полностью спрятался под мохнатой бровью. — Вы настолько верите в свои силы?
— Я собираюсь все для этого сделать, — ответил г-н Холберг. — Удастся ли мне — вопрос другой. А насчет веры… Если это не удастся мне, значит, этого не сделает никто. Хотя мои слова, наверное, звучат излишне самоуверенно
— Хорошо, — рабби сложил руки на груди. — Я отвечу на ваши вопросы, реб Шимон. Я не думаю, что вам удастся найти убийцу, но я отвечу на ваши вопросы. Знаете почему? — он коротко рассмеялся и снова посерьезнел. — Потому что вы почти дословно повторили слова раббана Гиллеля Великого. Сказанные, правда, по другому поводу. Но — пусть у вас будет шанс, реб Шимон.
— Спасибо. Скажите, господин Шейнерзон, а что вас привело в гримерную после спектакля? — спросил Холберг.
Раввин явно был готов к этому вопросу и ответил тотчас:
— Господин Ландау просил меня об этом заранее. Утром, в день спектакля, он зашел ко мне и сказал, что у него кое-что для меня будет. Не для меня лично, а для моей ешивы. Он был очень весел… — реб Аврум-Гирш задумался. — Нет, пожалуй, не весел, а возбужден. Очень возбужден, знаете ли, как будто предвкушал что-то интересное в ближайшем будущем.
— Кое-что будет… — повторил Холберг. — Так. Очень интересно. Но вы, конечно, не знаете, что он имел в виду?
— Почему же? Знаю, разумеется, — раввин вытащил из кармана большой носовой платок, чистый, но утративший цвет от частой стирки. — Очень даже знаю, господин сыщик. Это ведь не в первый раз. Покойный мне помогал уже около месяца. Не знаю уж, каким образом ему это удавалось, но он время от времени снабжал меня продуктами для моих учеников. Это было очень кстати, потому что детский паек в Брокенвальде… Ну, вы сами знаете. Его не хватает.
Мы с Холбергом переглянулись. Он был удивлен не меньше моего.
— Интересно, — пробормотал бывший полицейский. — Весьма интересно. Снабжал продуктами в течение месяца.
— Обычно это происходило в канун субботы, — добавил раввин. — Я даже могу сказать точно, в течение какого времени. Это, значит, спектакль был в пятницу. Это, значит, нынешняя суббота — четвертая… — он помрачнел. — Когда я пришел и увидел… Ужасная картина, ужасная… Первая мысль, которая пришла мне в голову в тот момент, была очень глупой: я подумал, что кто-то позарился на продукты, предназначавшиеся моим мальчикам. И убил господина Ландау, чтобы завладеть ими. Да, глупо, глупо, конечно… И очень стыдно… Ай-я-яй, реб сыщик, как же мне было стыдно! — реб Аврум-Гирш скривился, будто от зубной боли. — Не дай вам Бог испытать такой пронзительный стыд!
— Почему стыдно? — спросил Холберг.
— Потому что, увидев мертвого человека, я в первую очередь подумал, что мы теперь больше не получим продуктов, — расстроено объяснил раввин. — Только потом мне пришло в голову, что ведь человека лишили Божьего дара — жизни. И может быть, как раз из-за этой самой еды — нескольких буханок хлеба, пары-тройки брикетов маргарина, дешевых конфет… — он зачем-то встал со своего ящика, подошел к угловым нарам, взял в руки лежавшую там тетрадку. С рассеянным видом пробежал записи. — Как трудно быть человеком в наше время… — негромко произнес он.
— Думаю, человеком быть трудно в любое время, — заметил Холберг. — В этом смысле наше время отличается от остальных только большей концентрацией зла — и в душах, и в мире вообще.
— Да, вы правы, — рабби тяжело вздохнул. — Концентрацией зла. Это вы очень точно сказали, реб Шимон… — он помолчал немного. — Рабби Ицхак Луриа, Ари а-Кадош, да будет благословенна его память, учил, что искры Божественного света рассеяны повсюду и что каждую из этих искр окружают силы зла, именуемые клипот. Когда-то, еще на заре творения, произошла надмирная катастрофа, которую мы называем «швират а-келим» — «сокрушение сосудов». Сосуды — каналы, по которым должен был распространяться Божественный свет, не выдержали его полноты, разбились. Тогда-то и рассыпались искры по тьме нижних миров, а остатки сосудов стали тем злом, которое удерживает частицы света и не дает им соединиться и вернуться к Творцу, в первоначальное состояние… — он говорил размеренным, чуть суховатым тоном. Таким точно тоном он, по-видимому, читал лекции своим ученикам — еще в давние времена, когда преподавал в лодзинской ешиве. — Разумеется, реб Шимон, это всего лишь жалкая попытка на человеческом языке выразить явления сверхчеловеческие, для описания которых нет в нашем языке средств…. А голус, рассеяние народа Израилева — это было лишь отражение в нижнем мире той катастрофы, которая произошла в высшем. Но не только происходящее в высших мирах отражается в земной жизни. Все, что случается здесь, точно так же влияет на происходящее там, — он указал пальцем вверх. — Когда окончится рассеяние, когда соберутся в Святой Земле все изгнанники, явится Мессия. Но придет он лишь тогда, когда ни одной частицы Божественного света, ни одной искры не останется в плену клипот. И его конечной целью будет завершение процесса «тиккун», процесса исправления и возвращения всей вселенной к первозданной гармонии… — раввин окинул нас долгим взглядом расширенных светлых глаз, дважды моргнул. На лице его появилось выражение смущения. — Простите, господа, я увлекся… — пробормотал он и поднялся со своего ящика.
— Нет-нет, рабби, это очень интересно, — поспешил его успокоить Холберг. — Очень интересно… Вы, значит, полагаете, что рассеяние евреев, изгнание — явление временное?
Рабби опустил голову и заложил руки за спину.
— Да, — сказал он. — Я часто рассказываю своим ученикам об одном суждении Маарала Пражского[4], да будет благословенна память его. Он был человеком весьма сведущим не только в Писании и Законе, но и в светских науках — математике, астрологии, астрономии. И часто, толкуя то или иное духовное понятие, прибегал к аналогиям из этих, казалось бы, вполне материальных наук. Так вот, в «Нецах Исраэль», рассуждая о голусе, о рассеянии евреев, он пишет следующее. В механике существует понятие устойчивого и неустойчивого равновесия. Устойчивое равновесие — например, состояние, в котором свинцовый шарик лежит в глубокой чашке, на донышке. Вы можете его сдвинуть, но он вернется в начальное положение. Но переверните чашку и положите тот же шарик на самый верх образовавшегося купола. Вы получите состояние неустойчивого равновесия: толкнув шарик, вы заставите его скатиться вниз. Назад он уже не вернется самостоятельно. Я полагаю устойчивое равновесие естественным состоянием, а неустойчивое — противоестественным. Естественный порядок вещей долговечен, а противоестественный всегда ограничен коротким промежутком времени… — он сделал небольшую паузу, окинул задумчивым взглядом сначала меня, затем Шимона Холберга. — Как вы полагаете, реб Шимон, можно ли рассматривать не физические, а общественные явления в аналогии?
— Думаю, да, — ответил г-н Холберг, явно заинтересовавшийся рассуждениями раввина. — Во всяком случае, есть достаточно много примеров того, что явления, происходящие в природе, имеют свои аналоги в человеческом обществе.
— Очень хорошо, — реб Шейнерзон удовлетворенно кивнул. — В таком случае вполне разумно будет предположить, что и в жизни человеческого общества естественный порядок вещей долговечен, а противоестественный — нет… — заложив руки за спину, он прошелся по узкой комнате-пеналу, словно аудиторией его были не два случайных гостя, а сотня увлеченных учеников. — В изгнании — голусе — содержится тройное нарушение естественного порядка вещей. Первое: народ не может быть насильственно отделен от собственной земли. Это противоестественно. Все народы — дети Адама, и значит, не должен один народ находиться в подчинении у других. Это противоестественно. Не может один народ жить рассеянно среди других народов. Это противоестественно. Коль скоро противоестественное состояние всегда ограниченно относительно коротким промежутком времени, то и голус, будучи тройным нарушением естественного порядка вещей, непременно закончится… — рабби немного подумал и добавил, печально разводя руками: — Конечно, этот промежуток времени короток по сравнению с жизнью народа, но не с жизнью отдельного человека. Потому он и кажется нам вечностью… И все-таки мои ученики часто спрашивают: как Бог допустил то, что происходит сейчас? Как Бог — если он любит свой народ — допустил его до такого существования? Почему Он, воплощенное милосердие, не вмешался?