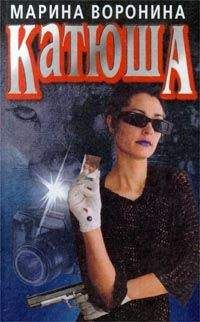— Все, Здена, зависит от обстоятельств.
Махат крепко держал Вокроуглицкого за локоть и пытался вытянуть из него побольше новостей:
— Слушай, Ота, тут у нас поговаривали, будто бы в Англии некоторые офицеры, прямо как звери, цеплялись из-за каждого пустяка к солдатам.
— Были и такие.
Кто-то затянул под гармошку:
Куплю себе я вороных коней…
— Ну, а солдаты? — кричал Махат. — Терпели?
Голоса подхватили:
Когда пойду на воинскую службу…
— Не терпели. Писали протест за протестом, вплоть до президента. Требовали отстранения таких командиров, иначе они откажутся повиноваться.
— Черт возьми, «откажутся повиноваться», — изумлялся Махат. — Ведь это же почти бунт. И чем кончилось, Ота? Наказали их за это?
Вокроуглицкий негромко ответил:
— Никого даже пальцем не тронули.
От тайной любви я страдаю,
Ни сна, ни покоя не знаю…
Махат вздрогнул как от удара:
— А почему мы должны молчать, если за жестокость Станека наш товарищ заплатил жизнью?
Вокроуглицкий притянул его к себе:
— Что ты, Здена! И не думай сравнивать! Жестокость во время боя может быть оправдана, мы позавчера испытали это на себе — от Станека.
— И вы тоже, Ота?
Вокроуглицкий не успел ответить. Пронзительно заиграли трубы сигнал тревоги. Все всполошились.
Командиры кричали: «По местам! Заводи!»
Махат бежал к своим, Вокроуглицкий — к Галиржу.
Приказ гласил: приготовиться к маршу! В ноль-ноль часов бригада выступит в направлении Софийской Борщаговки.
С гулом, лязгом, скрипом бригада, потушив огни, двигалась в неизвестность. Шестьдесят орудий, двадцать танков, более двухсот автомашин разного типа — бронированных, легковых, грузовых, санитарных, крупнокалиберные зенитные установки, триста пятьдесят повозок — вся эта колонна, словно гигантский червь, расчлененный на неравные доли, медленно двигалась на запад, навстречу противнику.
И вместе с колонной плыли в сумраке солдатские думы:
НА РОЖДЕСТВО ДОМА!
Блага окунул в ведро грязную тряпку.
— Это ж питьевая вода! — ахнул Зап.
Но было уже поздно: с тряпки в ведро закапала грязь.
— Мне нужно поставить себе компресс. — Блага сказал это таким тоном, который можно было принять одновременно и за объяснение, и за извинение.
— Кисейная барышня! — поддел его Махат.
— При чем тут «барышня», — вступился Цельнер. — Он чуть не погиб, я думал, что те два парня сделают из него решето…
— Мы были или нет в ночном дежурстве? — заворчал Млынаржик. — Одеяла на окна — и спать, черт вас подери!
— Подожди, — отозвался Цельнер, — у меня разобранное оружие.
— Хороший солдат соберет и в темноте. — Млынаржик сам стал затемнять окна.
Ержабек соскребал тесаком со штанов глину:
— Да погоди ты! Мне тоже еще надо…
— Всегда вы как нарочно после ночной вахты больше всего копаетесь, — огрызнулся Млынаржик и бросился на соломенный тюфяк.
Окна остались незавешенными.
Блага прилаживал компресс на горло:
— Он, видите ли, думал, что из меня сделают решето. Нет бы крикнул: «Не стрелять! Свои!»
— Как я мог крикнуть? — оправдывался Цельнер. — Я думал, это немцы. Они ж стреляли по тебе! Я прикинул: если подам голос, то станут стрелять и по мне. Со своего дерева я-то не слышал, что они говорят по-чешски. К тебе они были ближе!
— У меня голова была зажата между веток, я уже еле дышал.
— И вдруг наступила такая удивительная тишина, — продолжал Цельнер, — я смотрю на дерево, где сидит Блага, и у меня мороз по коже: на фоне неба чернеет силуэт повешенного. Ну, думаю, готов товарищ. Останется после него Манке только рюкзак, набитый письмами с любовными излияниями, ей-богу, я уж так думал.
Блага сидел на вещмешке и придерживал компресс на горле.
— Вот-вот! — злился он. — Слишком много все думали! Наш патруль, глядя на меня, думал, что на дереве «кукушка», немецкий шпион, а Цельнер в свою очередь думал, что патруль этот — немцы…
Ребята дружно захохотали, представив себе и тех двоих, внизу, перепуганных появлением на дереве лазутчика, и дрожащего Цельнера, и полуповешенного Благу, заливавшегося холодным потом.
Млынаржик повернулся от стены и пробурчал:
— Когда свои сцепятся со своими, тут уж не до смеху.
Махат прислушивался к разговору, а из головы не выходил Станек. «Когда свои сцепятся со своими». Тюфяк зашуршал под Махатом. Он с трудом сдерживал себя. Следил за своим дыханием, чтобы оно не выдало его волнения. «Мне тоже предстоит сцепиться со Станеком».
— Еще мгновенье, — продолжал Блага, — и вам пришлось бы меня хоронить — задушенного и застреленного.
Махат втянул голову в плечи, словно его самого душили.
Цельнера после всего пережитого не покидало веселое настроение:
— Много думали, говоришь? А сам-то ты о чем думал? Ведь ты же первый выстрелил в этих двух наших!
«Не я первый бросил в Станека камень, — сказал себе Махат. — Не я. Омега первый заикнулся о нашем надпоручике».
— Дудки, не стрелял я, — возразил Блага. — Я уже лез вниз, сорвалась нога, и я застрял в ветвях, а от толчка автомат дал очередь…
«А если и у меня сорвется нога? — напряженно думал Махат. — Если у меня не хватит доказательств?»
— И знаете, ребята, — делился Блага своими впечатлениями, — я не чувствовал ни боли, ни страха. Мне абсолютно было безразлично, останется у дяди аптека или нет, я уже со всем смирился, мысленно говорю ему: прощай, дядя. А Манке: прощай, красавица. Мне только странным показалось, что косая обращается со мной так осторожно, ощущение — будто я под наркозом…
— Да, тебе не сладко пришлось, — воздал должное переживаниям Благи Цельнер.
«И мне тоже не сладко приходилось, — размышлял о своем Махат. — Я уже думал: наконец-то попал в бригаду, теперь все позади. И вот опять…»
— Блага в рубашке родился, не иначе, — смеялся Цельнер. — Те двое думали, что его подстрелили, что «лазутчик» висит уже мертвый, пошли его снимать и видят: господи, это же наш!
«…Некоторые ребята, — не успокаивался Махат, — до сих пор находятся под впечатлением того, что Станек делал для них раньше. Они по-прежнему верят в него…»
— Господи, ведь это же наш, а мы его шлепнули! И тут Блага, дважды мертвый, повешенный и вдобавок подстреленный, как разразится: вы, ослы, наклали в штаны и давай палить в человека.
«…Нет, сейчас еще рано. — Махат с шумом втянул в себя воздух, потеряв на мгновение контроль над собой. — Моя атака должна быть тщательно подготовлена. Не поставишь крепко ноги — поскользнешься…»
— А что вы там, на такой высоте искали? — поинтересовался Зап.
Блага, поглаживая через повязку горло, неохотно промямлил, что все произошло из-за кабеля, который пересекал дорогу в конце деревни. Там его то и дело разрывали автомашины, поэтому решено было пустить кабель поверху. Пришлось Благе с Цельнером лезть на деревья.
— Врете! — сказал Зап.
Ержабек, тянувший эту линию вместе с Запом, знал, что там, хоть и растут по обеим сторонам дороги старые ореховые деревья, но далеко друг от друга. Поэтому он поддержал Запа:
— Да там же кабель не натянешь. Такой провес будет, что…
— Кто не верит, — надулся Цельнер, — пусть пойдет посмотрит.
— Одеяла на окна! И спать! — заорал Млынаржик.
В комнате стало темно. Но солдатам не спалось.
Кто-то ворочался, и в тюфяках шуршала солома, кто-то прошлепал босыми ногами по полу, послышался плеск воды в ведре.
— Ребята, кто сегодня расскажет на сон грядущий анекдот?
— Не до анекдотов, Эрик! Заткнись и дрыхни!
— Я привык засыпать рядом с Боржеком…
— Опять начинаешь!
— Если Эмча ходит словно в воду опущенная и всем своим видом напоминает нам…
— О чем?
Все замолчали.
— У меня в голове не укладывается, чтобы наш Старик мог…
— Вспыльчивый человек всегда может сорваться. У пана командира задето самолюбие, а случай для наказания идеальный.
— Думай, что говоришь, Здена!
— Да я ничего не говорю, Млынарж. Я только прикидываю, что к чему.
Не спится солдатам…
Старые половицы в Яниной комнатке жалобно поскрипывали под ногами Панушки. Вчера Станек передал Яне записку. Панушка знал, куда она собирается. К нему. Он остановился, погладил дочь по волосам.
Яна растрогана этой лаской, счастлива, что он рядом с ней. Нелегко пришлось бы ей, если бы она была здесь одна, среди чужих людей, сегодня еще более чужих, чем в первый день встречи с ними.
Панушка принялся снова расхаживать, опять заскрипели половицы, и ротному казалось, что все вокруг него трещит и рушится.
«Я все ждал, когда ребята угомонятся, — успокаивал он себя, — ведь это бывает после каждого боя. А такое сражение любого выбьет из колеи. На день, а то и на два… Но вот Киев уже позади, а разговоры о Боржеке не кончаются». Панушка присел на постель рядом с Яной. Она вся сжалась в комочек, чтобы он не видел ее лица. Панушка опять погладил ее по волосам: