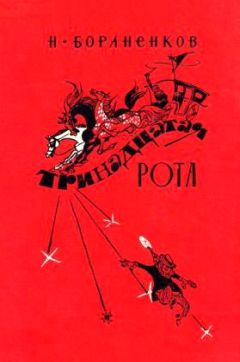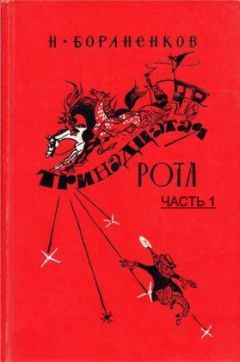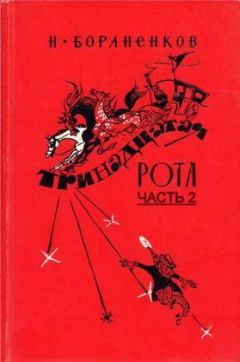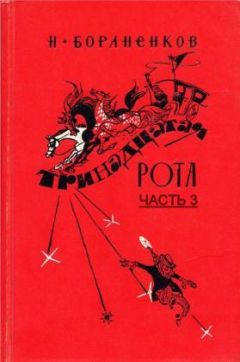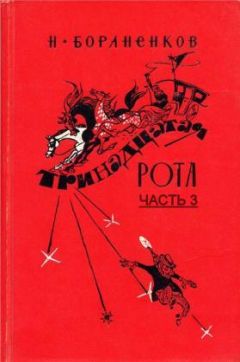— А вы, чай, из каких? Не из тех ли?
— Угадала, милка, что из шила вилка.
Наскоро одевшись, к карете подошли три старые женщины и та белозубая молодица, что бойко кричала всем, но не сводила глаз с Гуляйбабки. На ней была белая с вышивкой на рукавах и под шеей шелковая блузка, плотная клетчатая юбка на молнии. На ногах легкие туфли на низком каблуке. К груди она прижимала кувшин, прикрытый лопухом.
— Дзенькуем сыны та сябры! — поклонились разнаряженному кучеру старушки.
— Вгощайтесь кваском, — протянула кувшин Гуляйбабке красивая молодица.
Взяв кувшин, личный представитель президента долго пил свежий, холодный квас и, глядя в небесные глаза, горящие перед ним, с грустью думал: "Как иной раз не вовремя бог подсовывает людям подобное счастье и как несправедлив дьявол, пряча его черт знает куда. В карету бы ее да напоказ всей земле, всем людям или как березку в чисто поле, чтоб всем была видна, чтоб кто ни ехал, кто ни шел, шапку снимал перед ней".
Тем временем, пока Гуляйбабка пил квас и произносил в душе этот монолог, старушки изложили кучеру Прохору, которого они приняли за самого главного начальника, свою слезную просьбу. Как уловил краем уха Гуляйбабка, она содержала лишь два пункта: помочь скосить траву и распахать картошку, на что Прохор с напускной важностью отвечал: "Понимаю. Сочувствую. Думаю, вопрос решим положительно".
— Хлопцы-молодцы! — поднявшись на облучок кареты, заговорил Гуляйбабка после того, как кувшин молодицы и еще два подобных прошли по рукам из края в край колонны. — Как вы смотрите на то, чтоб помочь этим женщинам скосить луг и распахать заросшую сорняком картошку?
— Правильно! Помочь! Уважить просьбу! — загудел обоз.
— Благодарю! Понятно! — потряс над головой сцепленные кисти рук Гуляйбабка. — А что задержимся малость — не беда. Говоря пословицей, мы не обеднеем и фюрер не полиняет. Горнист, играй привал!
…Добрых полдня солдаты личной охраны разминали плечи на лугу, огородах, дворах и дали себе передых лишь к бою перепелов, когда луг лег рядками, картошка повеселела, пьяные калитки и заборы потрезвели, когда были наточены все пилы, косы, серпы, тяпки и топоры, когда у вдов и солдаток вырвался облегченный вздох: теперь на лето и управились.
Главу обоза Гуляйбабку весь полдень держали возле себя голубые глаза колхозной агрономши. Согретый ими, он развел огромный чан удобрений и весь его вычерпал под молодые сохнущие яблони. Да что там чан! Рядом с этими голубыми глазами, пожалуй, любой человек вычерпал бы озеро. Но время! Если б на это было свободное и не такое дьяволом попутанное время.
— Прощайте, Олесенька, — сказал Гуляйбабка, умывшись и одевшись под ветлой у ручья.
— Прощайте, — вздохнула она. — Так и не сказали, кто вы, куда держите путь.
— Я уже говорил вам, Олеся. Я — личный представитель президента! Разве моя карета, моя свита, охрана вам ничего об этом не говорят?
В глазах Олеси мелькнули слезы. С губ ее сорвался стон.
— Зачем? Зачем вы об этом? «Карета», "свита", «охрана»…
…Солнце садилось за лесом, бросая на молодые яблони прощальную тень. Легкий ветерок затягивал марлей прибрежные ветлы. Свежило. Пора бы и ехать. Но вот беда: люди не все еще собрались. Тот доделывал щеколду, тот прилаживал к двери петлю, тому осталось вбить последний гвоздь в доску. Помкомвзвода Трущобин, раздавший ребятишкам килограмма три конфет, все еще сидел на бревнах и никак не мог допытаться, есть ли в окрестностях партизаны.
Но самым досадным для Гуляйбабки оказалось то, что исчез куда-то вместе с коренным конем кучер Прохор. Предпринятые тут же поиски, которые лично возглавил Чистоквасенко, ровно ни к чему не привели. Да и не могли привести так скоро. Прохора увела вместе с конем пронырливая бобылиха Матреница перевозить с луга сено для своей буренки.
Пока бедовый бородач перетаскивал волоком к сараю копенки, довольная, раскрасневшаяся от присутствия на дворе такого мужика Матреница выстирала, высушила его нарядный мундир и, переодевшись в яркий сарафан, сидела теперь на куче сена и пришивала к рукавам прохоровского мундира отпоротые перед стиркой галуны.
Прохор, блаженствуя, лежал на спине, широко раскинув босые ноги, положив голову на колени доброй на угощение и ласку хозяйки. Рядом валялась пустая бутылка и кости съеденной курицы.
Матреница, прожившая тридцать с лишним лет без мужа, но знавшая цену счастливым семейным минутам, вела беседу мягко, плавно, не торопясь.
— Трудно, поди, тебе командовать войском? — спрашивала она, прилаживая и так и сяк золотой галун к воротнику.
— Что вы! Сущий пустяк, мадам, — отвечал в полудреме Прохор, — главное, кнут хороший иметь.
— Кнут? А зачем же кнут?
— Э-э, лапушка! Кнут для меня — это все. Я без кнута как без рук. Другие командующие, может, и могут, а я, извиняюсь, ни-ни. Я как только надел мундир, сразу требую кнут. "Без него, говорю, увольте, командовать не могу. Мне нужно подхлестывать во… то есть дивизии, полки…"
— И много у вас этих, как их… дивизий?
— Всех не считал. Некогда, знаешь. Но, пожалуй, наберется больше трехсот.
— Ой как много-то!
— Хм-м, много. А на кой же ляд тогда и генерал, ежели у него войска нет. Чем командовать тогда? Лошадями?
Не дождавшись ответа, Прохор нащупал в сене кувшин с квасом, подтащил его, попил и, почувствовав просвежение, сел.
— Нечем, лапушка. Точненько, нечем. Но совсем иной резон, когда у тебя под руками сто, двести, пятьсот дивизий! Тогда уж, Семеновна, держись! Тогда только командуй: "Сто дивизий вправо! Двести — влево! Триста — вперед!" А ты следом, на облучке с кнутом. Эй, кто там отстал, подтянись! Аллюр три креста, так вас разэтак. И вот, смотришь, разгром, победа. Натянешь вожжи. "Стой! Можно дать сена и закурить".
Матреница, отложив шитье, с восторгом смотрела на Прохора, который в ее глазах был по меньшей мере Ильей-пророком, с громом катавшимся на колеснице по небесам.
— Ты ж береги себя. Береги ради бога, — сказала она.
— Стараюсь, зоренька, но… всякое может быть. Человек не из металла. Удар копы… то бишь снаряда — и полководца нет.
Матреница осенила Прохора перстом:
— Да хранит те… бог. Да минут все бомбы тебя. Войско-то надежное?
— Самое что ни есть.
— А с кем ты воюешь, все не спрошу? С немцами, полицаями або еще с кем?
— Сказал бы, цыпонька, но не могу.
— Чего же не можешь? Разве я шпиен какой, — она тронула под своей шеей кружевную оторочку сарафана, — у меня вон вся душенька наружи.
Прохор обнял хозяйку, прижал ее к плечу:
— Видишь ли, душенька, если сказать тебе одно, то боюсь: трах, бах — и сердечко твое пополам. Если открыть другое — от радости «ох», "ах" обомрешь. Так что, лапушка, принимай каков есть, только без мундира.
— Как без мундира? — отшатнулась Матреница. — Чай, не просто мундир, а с плеч генерала.
— Нет, лучше уж давай без него, а то может случиться сто дивизий вправо, сто дивизий влево и ейн, цвей — гол как сокол. Скидай мундир, если не вместе с головой. Мундир ведь к голове особой прилагается.
— А у тебя ай не особая?
— Нет, у меня тож ничего, моя тоже гм-м… Особая, но я, лапонька, пока лишь куче… то есть пока не Кочубей.
— А кто такой Кочубей?
— Орел! Герой гражданской войны, лапуня.
— И ты, Прошенька, ну в точности орел. Одни усы чего стоят. Тебе бы только в нашем колхозе бабами командовать. Сто баб вправо, сто влево, а сам посередке. К такой, как я, под бочок.
— Сущая мечта, — зажмурясь, потряс головой Прохор. — К этому полу у меня земное тяготение, да только жаль — не притянула ни одна, за исключением, конечно, вас. У меня после встречи с вами, Матрена Семеновна, такой прилив в груди, такой жар стоит, что ноги подмывает и в музыку кидает.
— А у меня, Прошенька, музыка есть. Граммофон с трубою.
— С пластинками?
— С пластинками.
— Давай сюда. Устроим из горя по колено море. Эх!
— Верно, Прошенька. Хай у того Гитлера глаз перекосится и мерин опоросится. Бегу!
Матреница шустро подхватилась, сбегала в избенку и тут же вынесла дряхлый граммофон с облезлой трубой. На крышке его лежала гора запыленных пластинок.
— Карапетик есть? — спросил Прохор, надевая мундир.
— Есть, Прошенька. Вот сверху первый.
— С него и начнем. С карапетика.
Прохор сдул пыль с пластинки, смачно чихнул, закрутил до отказа скрипучую пружину, в два кольца усы и взял за руки Матреницу:
— Тряхнем?
— Тряхнем, Прохор Силыч.
Граммофон хрипло грянул "карапет мой бедный", Прохор с легкостью молодого подхватил под локоть раскрасневшуюся, похорошевшую партнершу и, лихо отплясывая, запел: