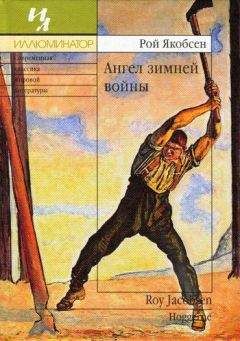В Суомуссалми зачастили делегации, финские и зарубежные, из ветеранов и штатских, политиков и ученых; в новом здании городской ратуши им вручали огромный букет и, например, термос, который прошел всю войну и спас жизнь капитану Лассиле, величайшему из героев; военный музей в Раатеваара разросся, сделавшись тихим, но весомым свидетельством большущего подвига небольшого народа. И это произошло быстро, раз-раз, и устоялось, как будто и всегда так было, и только теперь Суомуссалми, поняв, приняв и примирившись с этим, снова расцвел и засиял, теперь уже «на веки вечные», как выразился президент.
Триумф тоже почти незамеченным прошелестел над головой Тиммо, словно бесшумный летний день. Тиммо работал, читал газеты, слушал у Антти радио и чувствовал, как сам он постепенно становится преданием в чужом эпосе, расхожей цитатой, понятной всем с полунамека, мифическим персонажем, но он рубил себе дрова и рубил, тем и зарабатывал, даже смог купить себе старенький трактор, когда умер Кеви, а потом и крохотный пузатенький вагончик на колесах, этот годный скорее для отправки в утиль агрегат много лет стоял потом в гараже у Антти в ожидании автомобиля, но в конце концов появился и он, американский автомобиль, под которым Тиммо пролеживал все дни, которые проводил в Суомуссалми, и которому предстояло однажды повезти старый вагончик в Инари, Рованиеми или Оулу, если на Тиммо нападет вдруг такая охота.
Но однажды ему подсунули газету со статьей, написанной конечно же американцем, но переведенной на финский, это была большая подробная статья о зимней войне, его, Тиммо, войне, где упоминался и Родион с туфлями, то есть имя названо не было, но говорилось, что в конце января 1940 года в окрестностях Суомуссалми финны взяли в плен русского солдата, который наотрез отказался расставаться с парой алых женских туфель и настолько всех этим тронул, что до самого конца войны бойцы держали его при себе на побегушках, как своего рода талисман. А потом его амнистировали, и он остался жить в Иоенсуу, и у него новая, финская, семья.
Фотографии его в газете не было, да и упомянут он был лишь вскользь, а речь, как всегда, шла о доблестных героях, простившихся с жизнью на дороге между Суомуссалми и Раатеваара, на этой дороге смерти.
Но это было первой каплей, по большому счету, — первой дождевой каплей, нарушившей благодать последнего дня сухого сеностоя. Надо сказать, Тиммо изумился. Возможно, его задело то, что в статье не упомянули его самого, как спасителя Родиона. Но чем больше он все это обдумывал, тем сильнее удивлялся другому: русский — за столько лет! — даже не пытался отыскать его, а ведь между Иоенсуу и Суомуссалми не какая-то непреодолимая пропасть, нет, только леса и дороги, разве что русского удерживало что-то еще, какая-то внешняя сила или внутренняя, стыд или то загадочное русское чувство, которое никому не дано постичь?
Той осенью, которой предстояло стать не похожей на все уже минувшие послевоенные осени Тиммо, он, по обыкновению, возился с машиной, когда с небес упала вторая капля, вторая статья, построенная на изысканиях норвежского ученого, раскопавшего историю о двух русских евреях, братьях, в кильватере зимней войны перебравшихся в Финнмарк, спустившихся морем, на корабле, южнее, там они оказались в городе Трондхейме, где их приютила семья одного торговца, жившего продажей угля и всякой бакалеи. Но потом война пришла и в Норвегию, все семейство, вместе с братьями-евреями, арестовали немецкие оккупационные власти, потом услали в Польшу, где всех их сожгли.
Небеса разверзлись, как говорится.
Прошло больше двадцати лет с тех пор, как у Тиммо на глазах Надар и Лев, хромая, ушли по жесткому насту на север, два кривобоких силуэта, той светлой весенней ночью братья начали свой немыслимо дерзкий прорыв к новой жизни. Теперь и Тиммо, подобно всем остальным жителям Суомуссалми, стал изучать все, что написали за эти годы об их городе, а это были огромные кипы книг и газет… Суомуссалми оказался для финнов тем же, чем Сталинград для русских, и уже через пару недель после статьи норвежского изыскателя Тиммо наткнулся на репортаж об Антонове и Михаиле. Русский перебежчик заявил (писала столичная газета) представителям западных посольств в Хельсингфорсе, что сотни беженцев, устремившихся после поражения на север, к дому, после пересечения границы были тут же арестованы и расстреляны — как дезертиры. Этот перебежчик назвал примерно тридцать имен, в том числе Антонова — но не Михаила! А когда его спросили, откуда ему это известно, с неохотой признался, что был офицером Красной армии, из чего можно было сделать вывод о его причастности к расстрелам, однако же его можно было считать заслуживающим доверия свидетелем, тем более учитывая приведенные им подробности о судьбе Олега Илюшина, командовавшего всем в Суомуссалми. Тому вместе с тремя офицерами тоже посчастливилось вернуться на родину, но для того лишь, чтобы трибунал немедленно приговорил счастливчика к смерти: «за то, что сдал врагу тридцать пять полевых кухонь».
У Тиммо ушло много дней на обдумывание всего этого, в одночасье свалившегося на него, точно по заговору, но концы с концами так и не сходились. Тиммо даже поделился своими думами с Антти, который теперь перемещался в инвалидной коляске или на трехколесном мопеде с багажником, передав магазин своему старшему сыну Харри, Антти, у которого всегда начинали бегать глаза, стоило Тиммо заговорить о той военной зиме, которую — как он всегда подчеркивал — только он один из финнов пережил от начала и до конца.
— Можно подумать, что ничего из этого не было, — сказал Тиммо.
— Что ты имеешь в виду?
— Отец мой так говорил: если от чего проку нет, считай, его и не было.
И Тиммо попробовал улыбнуться. Он стоял тут с непрочитанным письмом, и не было у него никаких свидетелей… стоял и выдавливал из себя улыбку, все это было так давно, но словно бы вчера. Ну и что с того? И Антти ответил как всегда: плюнь, Тиммо, вот, еще раз убедился, что в нынешнем мире все запутано и непонятно, и сколько ни старайся его постичь, ничего не выйдет.
— Но как же его жена? — не унимался Тиммо. Жена Родиона, которая ждала эти туфли, неужели Родион не поехал к ней после всех своих страданий и жестокой разлуки? Вон даже Антонов не справился без семьи, она для человека самое главное, раз уж она у него есть, сам Тиммо ни о чем так не мечтает, как о собственной семье, хотя у него есть Антти.
На это лавочнику нечего было ответить, его вообще мало трогала вся эта история, к удивлению Тиммо.
— Он живет в Иоенсуу, — как будто это был существенный аргумент.
— Угу, — ответил Антти.
— Вот, написано!..
Тиммо навестил и свою учительницу, Марию-Лиизу Лампинен, с тех пор, как красота покинула ее, как разбитая наголову армия, Мария-Лииза озлобилась. Давным-давно пенсионерка, она постоянно сотрудничала с военным музеем в Раатеваара, а к старости прослыла самым лучшим знатоком событий той знаменитой зимы.
Но даже ее не интересовали ни Родион, ни остальные рубщики; тому, что рассказывал Тиммо, она отказалась верить, — так и заявила ему напрямик! — хотя он размахивал перед ней газетными вырезками, и заговорила в ответ непререкаемым, как у диктора, голосом о «послевоенном синдроме», будто Тиммо был экспонатом из ее военного музея; она не потрудилась хотя бы проявить терпение, на что он все же имел право рассчитывать, а размашисто поставила жирную точку, заявив:
— Надар не еврейское имя.
— Что?
— Я думаю, оно венгерское.
— А Лев?
— Это может быть еврейским, как вариант Леви. Но в еврейских семьях не дают одному сыну еврейское имя, а другому… Да и вообще у тебя с именами какая-то ерунда. У одних только фамилии, Антонов да Суслов, а у других лишь имена; откуда и зачем эта путаница, Тиммо! Ты понимаешь, что я говорю?
Она произнесла фразу по-русски.
— Нет.
— Так я и думала. А этим перебежчикам-русским я вообще не верю. Плетут всякую чушь, лишь бы поверили, им только бы здесь зацепиться.
— Одного из расстрелянных звали Антонов.
Она взяла у него газету, прочитала и взглянула на него с тем победным выражением на лице, которое он хорошо помнил по временам, когда она была настолько хороша собой, что простить ей можно было почти все.
— Тут сказано, что массовые расстрелы были восточнее Кухмо, а это очень далеко отсюда, Тиммо. Антоновых пруд пруди, ты все это нагородил на ровном месте, а этот толмач, как тебя угораздило сочинить его?
Возвращаясь той ночью домой, Тиммо думал об услышанных новостях, частью хороших, частью плохих, поди их теперь раздели… думал о том, что все это отныне сплошная череда искажений и перелицовок и мало похоже на привычную тишину, ту тишину, за которую отвечают время и границы и которой любой и каждый, он в том числе, мог бы порадовать себя после войны… Думал и заодно удивлялся: как это старая карга не припомнила ему, что он рубил дрова для русских, и ведь эта мегера сама-то ни в чем себе не отказывала, а он рубил дрова для себя, чтобы выжить!