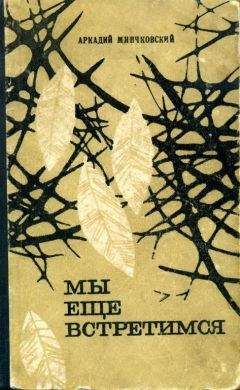Нина не сразу поняла мать:
— О чем ты?
— Ну, об этом, твоем госпитале. Сейчас для тебя это вовсе не обязательно.
— Но, мама! — Нина далее снисходительно улыбнулась. — Не хватает, чтобы ты еще сказала, что мне это не очень идет.
Нелли Ивановна вздохнула. За последнее время ей становилось все труднее и труднее говорить с дочерью.
— Да, но твоя музыка? — продолжала она. — Ведь ты все забудешь. А потом — кончится война и тогда что?.
— Поступлю в телефонистки, — пошутила Нина, но тут же добавила: — Нет, мама, это не так. Войне еще совсем не конец. А вот от моей музыки сейчас никому ни капелечки пользы.
— Может быть, по-твоему, и от театра никакой пользы? Может быть, и мне следует пойти в санитарки?
— И от театра небольшая польза.
Нелли Ивановна уже не на шутку сердилась:
— Так почему же, по-твоему, каждый день так набит зал? Почему все военные рвутся к нам в театр?
— Потому что… — Но Нина и сама не знала почему. — В общем, — продолжала она, — я музыкой сейчас заниматься не могу. И потом, — лицо ее вдруг сделалось серьезным, — я давно хотела тебе сказать, мама. Я, наверное, скоро уеду.
— Куда еще?
— Я не знаю куда, но наш госпиталь, кажется, сделают фронтовым.
Нелли Ивановна давно ждала этого часа. Но сейчас, когда время пришло, она не выдержала и почти беззвучно заплакала. А потом, достав платочек, вытерла слезы.
Нине стало жаль мать.
— Не надо, мама, — сказала Нина, гладя ей руку. — Ты можешь быть спокойна: наш госпиталь на медсанбат, он будет в тылу. Я вернусь жива и здоровехонька.
Нелли Ивановна вытерла слезы.
— Поступай как хочешь, — сказала она. — Ты уже не девочка. Только знай, если с тобой что-нибудь случится… И потом, есть же и другие госпитали… Все начальники бывают у нас в театре…
— Не надо, мама, — повторила Нина.
Нина уехала из Канска скорей, чем того ожидала ее мать. А затем отправился в командировку в Куйбышев Долинин. Там теперь находился Комитет по делам искусств.
Нелли Ивановна осталась одна. По вечерам, когда она бывала свободна от спектаклей, она все равно шла в театр. Одиночество для нее было невыносимо. После спектакля кто-нибудь из актеров провожал ее домой.
Одна — в неуютной, не своей квартире. Нелли Ивановна пила теплый чай из термоса и экономно расходовала сахар. Потом она брала книгу — что-нибудь позанимательней, подальше от войны, — и забиралась в постель. Но развлекательное чтение не шло в голову, и, отложив в сторону книгу, она долго думала о дочери и о муже. Странно, но теперь ей порой начинало казаться, что в жизни ей не так-то уж и повезло, как думалось прежде, а ведь совсем недавно представлялось, что все сложилось отлично.
Иногда она вспоминала Латуница, Где он? Жив ли? Может быть, это происходило потому, что Нина становилась все больше похожей на отца. Однажды Нелли Ивановна подумала о том, что́ было бы, если бы она не ушла от него. Может быть, с годами все сложилось бы иначе, но театр… И она гнала прочь от себя ненужные воспоминания.
В феврале из Куйбышева приехал Борис Сергеевич. Привез сухофрукты и килограмм настоящего кофе. Он был возбужден и свеж, как в прежние хорошие времена. Удалось договориться о переводе театра на Северный Кавказ.
— Это тебе не Канск, — говорил он, с удовольствием прихлебывая черный кофе, который варил сам. — Ростов наш и Донбасс тоже. На Кавказе сейчас совершенно безопасно.
На общем собрании в театре радостную весть сообщили всем. Актеры встретили ее аплодисментами. Долинин прибавил еще от себя, что, по полученным сведениям, на Кавказе все есть и цены умеренные.
Отъезд был назначен на конец марта.
Случилось так, что в январе Ребриков отсидел трое суток на губе, — так именовалась среди курсантов гауптвахта. Очутился он там следующим образом. Взвод шел в наряд, Казанов назначил Ребрикова дневальным по уборке. Ребриков заспорил, а когда сержант стал настаивать на своем, обругал Казанова. Тот доложил лейтенанту, и лейтенант дал Ребрикову трое суток.
На гауптвахте пребывало еще трое парней. Днем, облачившись в шинели третьего срока службы, без ремней, они пилили дрова для бани. Вечером, сидя на голых топчанах, вели долгие разговоры.
В общем, на губе было не так уж плохо. Курсантский режим дня был нарушен, и получалось нечто вроде отдыха.
На белой облупленной стене Ребриков по памяти нацарапал идущие от Москвы дороги, кружки ближайших западных городов. По этой «карте» решали, как наступать дальше, спорили, шумели, выбирали направление дальних ударов.
За этим занятием их и застал лейтенант, когда пришел забирать Ребрикова. Лейтенант был немногим старше курсантов и сам, наверное, был не прочь поспорить, но он был командиром, а это ко многому обязывало. Оглядев схему, он снисходительно улыбнулся:
— Ну, полководец Ребриков, давайте в расположение.
Конечно, он был хорошим парнем, этот лейтенант Максимов, и Володьке даже стало как-то не по себе за свою «трудновоспитуемость». А главное, по пути в казарму лейтенант не сказал ему ни слова упрека, вообще ничего не сказал. А это уже было хуже всего.
Но тут пошли такие дела, что стало не до переживаний.
Первую сногсшибательную весть принес Томилевич:
— Братцы, выпускают!
Сперва ему не очень поверили. Томилевич уже десятки раз приносил подобные сведения. Но когда после обеда отменили сон и приказали сдавать оружие, сомнений не осталось.
Вечером уже распределяли по командам. Возбужденные, еще не верящие в свое счастье, без пяти минут командиры слонялись по коридорам.
— Куда тебя?
— На Воронеж. А ты?
— Черт его знает! Почему-то в Забайкалье.
Ребриков с большой группой был назначен в Москву в НКО. Было обидно, что опять направляют в тыл, но спорить не приходилось. Томилевич в единственном числе отправлялся к иранской границе. Других посылали в Сибирь и за Волгу.
В первый раз курсанты были вызваны в кабинет начальника училища. Он пожелал всем удачи, сказал, чтобы не падали духом, если первое время в частях будет трудновато. Потом пожал выпускникам руки. Команде, в которой был Ребриков, сказал:
— Вы едете в затылок главного удара. Участок серьезный. Не подведите! — и улыбнулся.
Всю ночь рота не спала. Обменивались далекими домашними адресами и сохранившимися помятыми фотографиями. Балагурили, надеялись встретиться в Берлине.
Ребриков адресов не брал и своего никому не давал. Говорил:
— Будем живы — найдем друг друга.
В последние дни ему повезло: он получил сразу пять писем — четыре от матери, одно от Левы. В каждом письме мать умоляла писать как можно чаще, о себе сообщала кратко: «…мы с папой живем мыслью о встрече с вами».
Впрочем, письма все были старые, написанные не позже октября, и понять из них, как идут дела в Ленинграде, было невозможно.
Из письма Левы, тоже очень давнишнего, он узнал, что друг его оказался в народном ополчении.
Ребриков улыбнулся. Он как-то очень живо увидел Левку в военной форме, которая, конечно же, была не по нему.
«…Мы еще встретимся, Володька, — писал Лева большими буквами и, как всегда, криво. — Еще станем ходить по улицам нашего замечательного города, в который никогда не ворвется враг. Помнишь, мы говорили с тобой об этом на Литейном? Вот уже октябрь, а немцы там, где были. Придет весна — и мы их прогоним отсюда…»
— Придет весна, придет, — повторял Ребриков сам себе, складывая письмо.
Утром никто не хотел вставать. За долгие месяцы решили отоспаться. На табуретках лежали те же курсантские гимнастерки, только с иными, неумело пришитыми петлицами, с золотым ободком-кантиком и красными квадратиками.
Лейтенант! Это слово звучало сейчас, как сказочное «Сезам, отворись!» Лейтенант! Тебе уже не может приказать мести пол Казанов. Ты с ним на равных. И командир взвода тоже только лейтенант, как и ты. Лейтенант! Какая пропасть между рядовым курсантом, которому любой, кто носит хоть треугольник на петлицах, может сделать замечание! Да, за это стоило и пострадать.
Собственно, кроме кубиков и петлиц, ничего отличительного, комсоставского, не выдали. Выпускникам говорили: «Оденетесь в частях». Но выпускники на это надеялись слабо. Неожиданно открылось, что в роте немало хитрецов. Кое-кто вытаскивал из чемодана давным-давно приготовленные легкие сапоги — несбыточную мечту каждого вновь испеченного командира. Кое-кто, оказывается, уже умудрился обменять на складе курсантскую шинель на бывшую в употреблении, но все же двубортную — командирскую. Кто-то вынимал из вещевого мешка порядком смятые, но настоящие командирские бриджи. Да, это был не выпуск мирного времени, когда молодые лейтенанты покидали училище в новеньких, подогнанных в талию кителях и блестящих сапожках. Время настало другое.