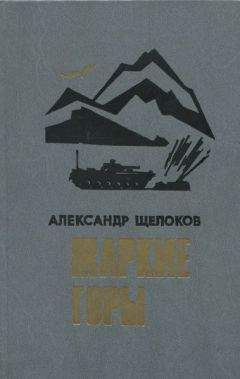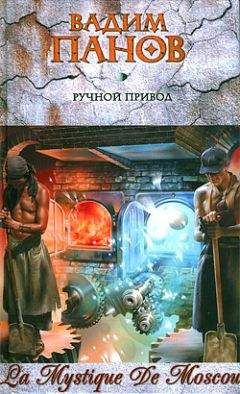— Товарищ Буриханов, — сказал комбат, — теперь все здесь. Пусть наш гость изложит, что его привело сюда.
Буриханов стал переводить слова комбата, и афганец закивал головой, подтверждая, что понимает. Потом заговорил сам. Быстро, напористо. При этом руки его, лежавшие на столе, совсем не двигались, ничем не отражали горячности слов.
— Он говорит, — переводил Буриханов, — что пришел сюда с покаянием. Он уже получил прощение от афганских властей, но не мог не прийти к шурави, которым тоже причинил зло. Он говорит, что свет доброты шурави — да будут продлены их дни аллахом! — растопил лед предубеждения, испарил недоверие. Он сознает вину и искренне раскаивается…
— Буриханов, — сказал Бурлак, — передай нашему гостю благодарность за его высокую похвалу и уважение. И все такое, как ты умеешь. Передай, а сам дальше переводи, только без рахат-лукума. К вечеру я не способен воспринимать суть дела, если оно к тому же посыпано сахаром. Давай существо. Понял?
— Хорошо, — сказал Буриханов и перевел благодарность комбата гостю.
Тот торжественно кивнул и продолжил разговор. Но теперь перевод стал звучать короче.
— Исахель говорит, что пять лет состоял в банде Исфендиара. Он верил, что шурави — слуги дьявола. Он думал, что они идут с мечом на ислам, хотят затоптать в прах зеленое знамя пророка. Он переносил лишения, скитался в горах вместе с бандой. Думал искренне, что служит вере и правому делу. Но жизнь даже осла научит отличать кнут от сена. Сколько ни говори «сахар», во рту не станет слаще, а словом «перец» не приправишь похлебки. Он потом понял, что шурави — люди хорошие. Это души добрые, мудрые. Можете сказать мне, говорит Исахель, голова, голова, о чем ты думала раньше. Да, пал на нее позор, не скрыть под чалмой. Сын его Сулейман разбудил сомнения. Мальчика ранила мина. Он потерял много крови и умер бы. Но кровь ему дали шурави. Сулейман здоров. Он веселый. Он не стал слугой сатаны. Он сын отца, как и прежде, его надежда… Ему надоела война…
Полудолин слушал исповедь душмана со смешанным чувством недоверия и удовлетворения. С одной стороны, не доставляло большого удовольствия общение с человеком, который, но его собственным словам, «причинял зло» шурави. С другой — майор понимал, что каждая такая победа над прошлым, достигнутая без стрельбы, без огневого противодействия сторон, свидетельствует о крепости и доходчивости той правды, которую они здесь защищают. Он старался понять, в какой мере искренен этот чернобородый скуластый воин, которого сейчас трудно заподозрить в мягкосердии и доброте. Темные, сверкающие из-под густых бровей глаза, хищный нос со слегка загнутым кончиком — все выдавало в Исахеле натуру порывистую, горячую. В то же время его голос, особенно когда речь шла о здоровье сына, неуловимой теплотой свидетельствовал об искренности произносимых слов.
Буриханов переводил деловито, спокойно. Должно быть, речь афганца не представляла для него трудностей.
— Хочу смыть с себя кровь. Хочу упасть в ноги к вам, шурави. Решите мою судьбу. Если скажете — смерть, приму безропотно. Если простите, буду жить искуплением. И еще хочу назвать своего сына именем Шурави. Если вы разрешите.
— Сына его зовут Сулейман, — заметил Полудолин. — Зачем ему второе имя?
— Исахель говорит, — перевел Буриханов, — у него родился еще один сын. Совсем маленький. Хочет назвать его Шурави. Вопреки всем, кому это может не понравиться.
— Тогда не Шурави. Пусть назовет просто Шура, — предложил Полудолин. — Есть у нас такое имя.
— Погодите, Буриханов, — сказал Бурлак, — не переводите. Давать советы с ходу — это по-нашенски. Здесь так не годится. Скажите Исахелю, что мы поздравляем его с рождением сына. Желаем малышу доброго здоровья и счастья. Затем добавьте, что вопрос, как назвать мальчика, решают только родители.
Буриханов перевел. Исахель с важным видом качал головой.
— Он понимает, товарищ майор, — сказал переводчик, — и принял решение сам. Старики в кишлаке тоже считают, что так назвать хорошо.
— В таком случае, Буриханов, скажите, что нам очень приятно решение отца. И вот теперь только переведите, что майор предлагает назвать мальчика не просто Шурави, а Шура.
— Шу-ра, — произнес Исахель, вслушиваясь в звуки имени. — Да будет так. Хорошо. Шура.
Они расстались, довольные друг другом. Возвращаясь в штаб, Полудолин спросил комбата, что собой представляет Гогиашвили.
— Вахтанг? — Глаза Бурлака засветились по-доброму. — Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! Человек чести и долга. Таких поискать. Помню, нас перехватила засада в «зеленке» у Чарикара. Шла колонна, а духи весь огонь на рябую бочку обрушили. Я думаю, приняли за автозаправку. Мол, если ее поджечь, колонна вмиг распадется. Они били, вода хлестала. А Вахтанг по бочке лазит со своими колышками. Как дырка — он ее затыкает. За автомат взяться так и не успел. Зато больше полцистерны воды сберег. В тот день двадцать две дырки в цистерне пробили. Тогда я его представил к награде…
— Радостно сознавать, командир, — сказал Полудолин, — когда видишь, что такие люди не переводятся.
— А почему они должны переводиться? Нет причин. Важно, чтобы как можно больше молодых понимало: шурави — это слово гордое.
Полудолин поморщился.
— Как подумаю, что мальчишка у душмана тоже будет Шурави… И руку его жать было малоприятно. Как подумаю, что он смотрел на нас сквозь прорезь прицела…
— Ну, ну, — успокаивающе сказал Бурлак, — не развивай темы. Кому-кому, а тебе не к лицу такие переживания. Сколько раз на семинарах повторял, что война — продолжение политики? И вот появилась возможность ударить по противнику не военными, а политическими средствами. Тебя это пугает?
— Какой же тут ты увидел удар? — спросил Полудолин, не скрывая пренебрежения. — Так, щипок. Ушел, видите ли, Исахель.
— Удар очень сильный, комиссар. Исахель привел с собой еще девять духов. А каждый из них стоит десяти. Сам читал на Исахеля ориентировку: хитер, умен, свиреп, сметлив. И вдруг сложил оружие, пришел домой. Да не просто явился. Принес важную разведку. О тайных складах, о минных полях. Казалось бы, кто должен оценить первым такое? Политработа. А ты перед собой руку несешь, как зараженную.
— А самому приятно было? Только честно.
— При чем тут честно или нечестно? Мне и воевать не очень приятно, а я воюю. Впрочем, если на то пошло, я бы всем духам руку пожал при условии, что они начнут складывать оружие. Такое тебя устраивает?
— Такое — вполне!
ПАКИСТАН. УРОЧИЩЕ ЛЭВЭКАПДА. АФГАНИСТАН. РАЙОН ДАРБАРА
Машад Рахим, главарь группы «медведей», получил документы на имя Наби Иналовича Рузиова, старшего лейтенанта Советской Армии. Удостоверение личности, старательно скопированное в мастерских американских спецслужб, должно было стать свидетельством «зверств», которые чинят в Афганистане советские войска. Заполнял графы бланка некий неведомый миру «умелец», провокатор из вскормленного еще гитлеровскими фашистами Национально-трудового союза — НТС.
Липу, несмотря на похожесть, установить было бы нетрудно. Но она и не предназначалась для предъявления советским военным властям. Ее готовили для демонстрации в других местах. После уничтожения группы террористов «честными мужахидами» их документы планировалось передать в руки западных журналисток. И тогда, как ни старайся доказать, что старшего лейтенанта Рузиева ни сном ни духом в Советской Армии не бывало, вряд ли кто в мире поверил бы опровержениям. Вот почему эксперты нечистых дел дали «медведям» «добро» на выход из их «берлоги».
Когда Машад Рахиму, до того командовавшему боевой десяткой в банде Фарахутдина, объяснили, что он теперь по документам и положению старший лейтенант, что на нем офицерские погоны, тот сразу почувствовал себя человеком важным, распушил походившие на крысиный хвост усы и врезал в морду длинному Муфти Мангалу. Без всякой нужды и причины. Просто так, для утверждения своего авторитета.
Мангал скрипнул зубами и проглотил обиду, не закрывая глаз. Таков уж порядок: полировать морды подчиненных душманов не просто право их шефа — это его обязанность.
К пониманию своего положения в душманском мире Машад Рахим шел через годы.
Сельский батрак, сын батрака, до восемнадцати лет он горбатил спину на полях крупного маллака — помещика. Чистил арыки, окучивал огородные посадки, поливал землю. Всюду, где нужно было гнуться и потеть, побывал хилый, тщедушный базгар.
За недолгую жизнь зажатого нуждой человека он не выучил ни одной буквы, не мог ни написать своего имени, ни прочитать его, если напишут другие.
Темный, как беспросветная южная ночь, Машад Рахим был добрым и богобоязненным парнем. Он исправно творил пятикратный намаз и был уверен, что его молитвы непременно доходят до аллаха. Не могли они не доходить, если к всемогущему и всемилостивейшему обращался не столько язык правоверного, сколько его горячая вера.