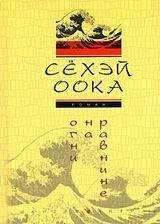Кто же смотрел на меня? Вряд ли это была филиппинская женщина. Я ведь не съел ее, а только убил…
Однажды мне встретился солдат. Он шел упругой, энергичной походкой, в каждом его движении ощущалась жизненная сила. Я мгновенно уловил хищный блеск в глазах незнакомца, когда он остановился и оценивающим взглядом окинул меня с ног до головы. Казалось, он также легко раскусил меня.
– Ы-ы-ы! – Нечеловеческий утробный вопль вырвался у него из глотки, и мы разошлись в разные стороны.
Чуть позже я набрел на группу людей, разбивших палатку среди деревьев недалеко от дороги. Они пристально следили за мной, когда я проходил мимо.
– Ы-ы-ы! – оскалился я. Эти люди меня не интересовали. Я искал неподвижные тела – теплые, еще не окоченевшие трупы.
Как-то вечером дождь кончился, заходящее солнце окрасило горы в багровый цвет. Я вскарабкался на холм, чтобы полюбоваться сочными красками неба. На вершине под одиноко растущим деревом лежало неподвижное тело.
Глаза человека были закрыты. Лучи солнца, соскользнувшие с западных склонов, осветили его зеленоватое лицо, очертили скулы над впадинами щек и подбородок. Я понял, что человек еще жив. Веки дрогнули, глаза открылись. Не мигая он смотрел прямо на солнце. Бескровные губы зашевелились, и я услышал несколько слов.
– Светит, – произнес человек. – Сверкает! Опускается, как быстро садится! Земля крутится. Вот почему солнце садится, да?
Он взглянул на меня. В его глазах вспыхнул такой же блеск, как у того солдата, что пронесся мимо меня с воем: «Ы-ы-ы!»
– Откуда ты взялся, приятель? – осведомился человек.
Я молча уселся рядом с ним под деревом. Солнце спряталось за холмом, стрелы лучей пронзили кудрявую зеленую поросль на вершине и взметнулись ввысь. Теперь только облака, застывшие в небе, отсвечивали золотом. Угасающее сияние озарило нас.
– Западный рай. Чистая земля. Будда един. Имя ему Амида. Все одно, все едино. Два есть два. Я молитвенно складываю руки. – Он сложил ладони и прижал к ним заросший бородой подбородок.
С шуршанием припустил дождь.
– У-у! – выдохнул человек, посмотрев на небо, и затрясся от смеха. Запрокинул голову и открытым ртом принялся ловить капли дождя. Из его горла вырывалось булькающее урчание. Только когда он глотал, странные звуки прекращались.
– Эй, – сказал я, – пошли отсюда, слышишь?
– Зачем? Какой смысл уходить? С Формозы за мной прилетит самолет. Понимаешь? Прямо здесь должен сесть вертолет.
Я внимательно посмотрел на него. Мужчина лет сорока. Судя по выцветшей форме, офицер. Ни револьвера, ни меча при нем не оказалось.
– У-у! – вновь выдавил из себя человек, его дрожащий подбородок возбудил во мне аппетит.
Темнота накрыла наш холм, и офицер затих. Его хриплое дыхание подсказало мне, что он заснул.
Я не спал.
Первое, что я увидел на рассвете, было лицо офицера, облепленное роем мух. С тихим свистящим хрипом «хи-и-и» он проснулся. Мухи, словно напуганные зловещим звуком, с жужжанием взлетели на полметра вверх и стали кружить над человеком. Изредка они зависали в воздухе, их крылышки трепетали с нарастающим гулом. Потом мухи вновь опустились на офицера.
Он открыл глаза, смахнул с лица насекомых и отвесил глубокий поклон.
– Ваше императорское величество, – нараспев произнес бедолага, – Небесный государь, владыка Японии, смиренно молю вас: позвольте мне, недостойному, вернуться домой! Аэроплан, прилети, забери меня отсюда! Пусть на холме сядет вертолет… О, как же здесь темно! – неожиданно пробормотал он, понизив голос. – Ужасно темно! Утро еще не наступило.
– Утро уже наступило, – сказал я. – Разве вы не слышите, как поют птицы?
С рассветом распогодилось, дождь прекратился. Птичьими голосами наполнились заросли вокруг нас, зазвенел лес в долине. Пернатые, точно стрелы, метались между деревьями на соседнем холме.
– Это вовсе не птицы, – заявил офицер. – Это муравьи! Это жужжат муравьи. А ты дурак! – Он зачерпнул у себя между ног горсть земли и запихнул в рот. Запахло мочой и экскрементами. – Ага, ага!
Он прикрыл глаза. Мухи словно только этого и дожидались: они мгновенно слетелись отовсюду с сухим шорохом. Вскоре лицо, руки, ноги офицера, каждый открытый участок его тела – все было облеплено шуршащими насекомыми.
Назойливые твари стали пикировать и на меня. Я принялся размахивать руками. Но мухи, казалось, не видели никакой разницы между мной и умирающим безумцем – впрочем, возможно, я тоже уже умирал? – и мои жалкие трепыхания их совершенно не беспокоили.
– Больно! Ох, как больно! – простонал человек. Потом раздался равномерный хрип: он заснул.
Вновь припустил дождь. Струи сбегали по телу офицера, смывая мух. Вместе с каплями дождя с деревьев на него падали гигантские горные пиявки. Некоторые сначала шлепались на землю, а потом медленно подбирались к своей жертве, изгибаясь, как гусеницы-землемерки.
– Ваше императорское величество, Небесный государь, владыка Японии, – кланяясь, затянул свое проснувшийся офицер и тряхнул головой. Насекомые посыпались с него, как лоскутки. – Я хочу домой. Отпустите меня домой! Хватит воевать! Спаси нас, о милосердный будда Амида! Будда милосердный! Я складываю руки и возношу молитву.
За мгновение до смерти он вперил в меня ясный взгляд прокурора – видимо, в его помутившемся сознании наступил временный просвет, как это часто бывает у больных перед кончиной, – и сказал:
– Как?! Ты все еще здесь? Ах ты, бедняга! Когда я умру, можешь это съесть. – Он задумчиво посмотрел на свои исхудавшие руки и медленно похлопал себя по левому плечу.
Я перевернул мертвеца на живот, под подбородком пропустил ремешок от своей фляжки и поволок труп к неглубокой яме на склоне холма. Высокая трава и густой кустарник надежно укрывали меня от посторонних глаз.
Очень быстро я понял, что будет нелегко привести в исполнение план, досконально продуманный мною буквально за день до встречи с сумасшедшим офицером. Теперь я оказался во власти его предсмертного напутствия, и оно подействовало на меня самым странным образом: я получил разрешение, которое воспринял как запрет.
Закатав рукав офицерской рубашки, я уставился на плечо мертвеца. Оно было худым, жилистым, но под бледно-зеленой кожей скрывались мускулы хорошо натренированного бойца. Мне вспомнилась прибрежная церковь, фигура распятого Христа, его раскинутые руки, вздувшиеся вены, напряженные мышцы…
Я отстранился от трупа, и на него тотчас налетели мухи. В мгновение ока бледно-зеленая рука скрылась под колышущейся изумрудно-чернильной массой насекомых. Что-то удерживало меня у тела, не позволяло уйти.
Снова зашумел дождь, прозрачные потоки принесли с собой горных пиявок, которые так же жадно набросились на труп, как и мухи. Прилепившись к телу, мерзкие кровопийцы разбухали, превращаясь в шары прямо у меня на глазах. Пиявки копошились в глазных впадинах – казалось, это трепещут мертвые веки и ресницы. Невозможно было сидеть и смотреть, как черные липкие твари пируют на моей добыче. Недолго думая я принялся отрывать пиявок от трупа, давить и сосать кровь, которой они только что напились.
И тут я полностью осознал нелогичность своего поведения: не имея сил наброситься на мертвого человека, я без зазрения совести поглощал его кровь, отнимая ее у других живых существ. В тот момент пиявки были лишь орудием в моих руках, я раздирал их пальцами, а ведь мог с таким же успехом использовать другой инструмент, например штык, для свежевания человеческого тела.
Я убил женщину и навсегда лишился права вернуться в мир. После того как я собственными руками загубил чужую жизнь, мне будет невыносимо видеть вокруг себя живых людей…
Но смерть лежавшего у моих ног безумца была не на моей совести. Истощение, жесточайшая лихорадка подточили его силы, и сердце остановилось. Свет сознания навсегда померк в этом теле, оно перестало быть человеком и, в сущности, мало чем отличалось теперь от овощей или мяса животных, которых мы ежедневно убиваем и поедаем без угрызений совести.
Передо мной лежала субстанция, не имеющая никакого отношения к человеческому существу, обронившему три слова: «Можешь это съесть».
Опустившись на колени, я начал сдирать пиявок с офицерской руки. Вскоре обнажился небольшой участок зеленоватой кожи. Про себя я отметил, что именно по этой части плеча похлопал себя офицер, предлагая мне отведать угощение (сей факт подтверждал, что даже на той стадии одичания я все еще обладал некоторой чувствительностью). Решительным движением правой руки я извлек из ножен штык и воровато огляделся, чтобы удостовериться, что никто не подсматривает за мной.
А потом произошло нечто поразительное. Я вдруг обнаружил, что моя левая рука судорожно вцепилась в правую, сжимавшую штык. Это странное движение левой руки впоследствии вошло у меня в привычку: как только я собирался положить себе в рот то, что мне не следовало есть, она инстинктивно дергалась, обхватывала запястье правой, сжимавшей вилку, и сдавливала его до тех пор, пока у меня начисто не пропадал аппетит. Непроизвольное движение левой руки стало для меня настолько привычным, что я не обращал на него внимания. Мне просто казалось, что моя левая рука принадлежит кому-то другому.