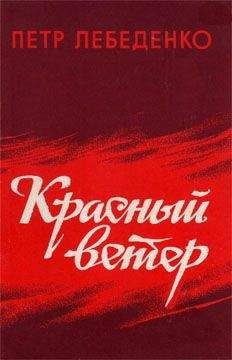Утром, наспех позавтракав, Полинка отправилась к тому оврагу. Лисят на месте, конечно, не оказалось. Но, разглядывая совсем свежие следы, Полинка без особого труда разгадала, прибегала сюда, старая лиса, искала свое потомство и, найдя, в зубах уносила по лисенку в свое логово.
— Ну и слава Богу, — с облегчением сказала Полинка.
Села на дерево, стала глядеть на тихий, будто дремлющий, ручеек., Там, где вода все же размыла листья, сверкали золотые искорки, зажигаемые солнцем, и казалось, будто на дне горят маленькие самородки — опусти руку и бери их в ладонь, любуйся ими… А тишина, тишина! Угомонились сороки, улетели куда-то кукушки. Изредка вздохнет таежный ветерок, мягко прошелестит ветвями кедрача, прошепчет что-то свое, тайное елям — и снова ни звука. Такой тишины, думает Полинка, как в тайге, нигде больше не бывает. Залезь в глухую пещеру, прислушайся — там тоже тишина, но только мертвая. А в тайге она живая. И Марфа Ивановна так же говорит. «Ты, — говорит, дочка, не моги и думать, будто в тайге совсем быват тихо. Это только на первый слух. А в то „тихо“ ишо вслухаться надо, как следоват. Понимаешь? Кедрач дышит? Дышит. Кажна гравинка дышит? Дышит. А как же иначе? Мураш ползет — от него хоть и, малый, а шум идет. Только наше ухо не приспособлено такое слышать. Не-ет, дочка, та тишина, што в тайге, она живая…»
Мудрый человек эта Марфа Ивановна. С ней всегда легко. «Кажный человек, — говорит она, — милосердешным должон быть. Вот ты как думаешь — для чего ты на свет божий появилась? Просто так, да? Прожить-проходить столько-то годов и все? Нет, дочка, на свет божий появилась ты, штоб добро делать, штоб утешать другого человека. Тогда и сама утешенной будешь». Сама-то Марфа Ивановна на каждый случай жизни слова утешения имеет. Вот проснется Полинка — и начнет рассказывать Марфе Ивановне, какой ей сон приснился. Будто сидит она на берегу и смотрит на широкую-широкую речку, по которой далеко-далеко лодка плывет.! Не видит Полинка человека, который в лодке той сидит, но знает, что это Денисио. И вот вдруг на ее глазах лодка стала погружаться в воду, да так быстро, будто кто-то дно ей пробил. Вот уже лишь края бортов чуть видны, скоро, наверно, несчастье случится, а человек в лодке сидит и ничего не делает, у него тоже — голова да плечи — на виду остались. «Прыгай, Денисио! — в отчаянии кричит Полинка. — Прыгай и плыви к берегу!» Нет, не слышит ее Денисио, а через минуту другую — и лодка, и сам Денисио исчезли в пучине. Ничего и никого на реке не осталось, даже следа от лодки не видать…
Марфа Ивановна внимательно слушает, на лбу и у глаз морщинки глубже стали, да и в глазах тревога так и плещется.
— Ох и нехороший сон привиделся тебе дочка, — говорит она. — Для Дунисио нехороший. Как бы чего плохого не произошло с ним. Не едина, говоришь, следа на реке не осталось? Ну и ну…
Полинка всегда в сны верила, только не каждому могла найти объяснение, угадать, какой сон что готовит. И при словах Марфы Ивановны даже заметно побледнела. С тех пор, как Федор ушел воевать, Денисио стал для нее самым дорогим человеком. Просты ее чувства к Денисио, ничего сложного в них нет: хороший, верный друг он ей, а это часто дороже, чем чувства, испытываемые к родному брату.
Марфа Ивановна знает о привязанности Полинки к Денисио, потому и не удивляется тому, что Полинка так переживает. Встала с кровати, на которой сидела, слушая Полинку, и говорит:
— Да ты не шибко кручинься, дочка. Вот я щас оставлю тебя одну, ты поднимайся и тихонько три раза произнеси, за каждым разом перекрестившись:. «Куда ночь, туда и сон, святой Есиф худое на хорошее переносит». Поняла? Все поняла? Сделаешь это — и тревожиться после того нужды никакой не будет…
Думая сейчас обо всем этом, Полинка улыбается. Хорошо ей с Марфой Ивановной. Ей вообще хорошо. Правда, бывают тяжкие минуты, когда она вдруг увидит женщину, получавшую похоронку на мужа или на сына. Идет такая женщина по улице, будто слепая от горя, ничего перед собой не видя и никого не слыша. Страшно на нее смотреть, и сжимается у Полинки сердце, будто огонь чужого несчастья опалил и ее собственную душу.
Но потом все это проходит, к ней опять возвращается покой и безмятежность души, ее любовь к Федору затмевает разные повседневные невзгоды, а вера, глубочайшая вера в возвращение Федора с — войны не оставляет ее ни на минуту, и она благодарна судьбе за то, что та к ней так милосердна.
…Вот и сейчас, сидя на старом, в давние времена поваленном бурей, дереве и глядя на тихий ручеек, Полинка испытывала удивительное умиротворение, и удивительный душевный покой, она даже забыла, что где-то идет война, которая, как глубокая воронка, втянула в себя миллионы людей, и в том числе ее Федора. Сейчас она не думала ни о страданиях тех, кто навсегда утерял своих близких, ни о тревогах матерей и жен, чьи сыновья и мужья находятся там, где каждого человека подкарауливает смерть. Если бы у нее сейчас спросили, о чем она думает, Полинка вряд ли вразумительно ответила бы. Пожалуй, она не думала ни о чем, она просто была вся в себе, в своих ощущениях, которые складывались из живой тишины тайги, из рожденных солнечным лучом крохотных золотых самородков на дне ручейка, из появлявшихся и на глазах у нее тающих прозрачных облаков, из чистого воздуха, которым она дышала так легко и свободно. Это был ее мир, и она действительно ощущала его так, словно была неотъемлемой его частью, словно родилась вместе с ним и никогда из него не уйдет…
И вдруг в какое-то почти неуловимое мгновение все резко изменилось, так резко, что Полинка потерянно начала оглядываться вокруг, и оттого, что перестала многое узнавать, растерялась и ей сделалось страшно. Она быстро поднялась и хотела бежать домой, но не знала, в какую сторону надо бежать, потому что густой, как грязная ветошь, туман поглотил и дерево, на котором она сидела, и ручей с его золотыми самородками, и тропки-дорожки, ведущие к ручью, он поглотил даже таежную тишину, которая стала теперь совсем мертвой. Он был холодным, этот откуда-то появившийся туман, холодом своим, похожим на зимний сибирский холод, он сковывал чувства и мысли Полинки, оставляя только страх перед чем-то неведомым и непонятным, ей казалось, что этот холодный туман сковывает не только ее тело, но проникает и в сердце, которое вдруг больно заныло. Протянув руки вперед, словно стараясь наощупь отыскать дорогу, Полинка сделала шаг, другой, но дороги не было, иона, закрыв глаза, закричала:
— Федя!
Тайга молчала. Но когда через несколько мгновений Полинка открыла глаза, туман уже исчез. Исчез также внезапно, как и появился. И в тайге было тепло, слегка зашумел, точно проснувшись, ручеек, на дне его по-прежнему горели самородки, верхушки кедрачей играли блестками, а где-то недалеко невидимая иволга пропела:
— Тиу-ли, тиу-ли!
— Наваждение, — проговорила Полинка.
Хотела улыбнуться, хотела ощутить в душе прежние умиротворенность и покой, но не смогла. Нет, не смогла…
* * *
Микола снова упал на землю, закрыл голову руками и долго лежал неподвижно, потом встал, подошел к мертвому Федору, сел около него и сказал:
— Ладно, Федя… Они мне за тебя заплатят:..
1
Капитан Шульга и сам не знал, сколько времени сидит вот в этом стареньком кресле, глядит на то вспыхивающие, то гаснущие угли в печке и все думает, думает. Мысли путаются в голове, ему порой кажется, будто в хаосе его мыслей пробивается что-то главное, что он немедленно должен решить, но оно, это главное, все время от него ускользает, он старается уловить его и не может. «Надо подбросить в печь дровишек, — думает капитан Шульга. — Сколько дней подряд может продолжаться эта проклятая пурга, — думает капитан Шульга.
— Что-то неладное творится с летчиком Трошиным… Как рассказать Денисио о том, что ко мне уже третий раз приходит майор Балашов из НКВД? И имею ли я право рассказывать ему об этом? Меня ведь предупреждали…»
Да, вот она, та главная мысль, которая ускользает: гибель летчика Федора Ивлева и… Полинка. Вот что надо решить: как сказать об этом Полинке? Кто это должен сделать? Я? Я не смогу. Для меня Федор и Полинка — это, как мои дети. Я немало уже прожил на свете, но еще не встречал такой чистой любви. Нет, не встречал. Странно это? Может быть… И не встречал такой глубокой веры, как у Полинки. Она и провожала Федора на фронт совсем не так, как провожают другие: ни особого горя, никакого отчаяния. Она знала, что ее Федор обязательно вернется. Никакого сомнения…. И вот…
На коленях у капитана Шульги лежит письмо Миколы Череды. Страшное письмо. «Лучше бы это случилось со мной», — пишет Микола Череда. Пишет искренне. Наверное, Федор прикипел к душе Миколы. Да иначе и быть не могло — Федора Ивлева нельзя было не полюбить.
И рядом с письмом Миколы: «Летчик Федор Ивлев погиб смертью храбрых, спасая от гибели детей. Мы будем помнить его как необыкновенно мужественного человека, честного Солдата нашей Родины… Командир полка, комиссар полка…»