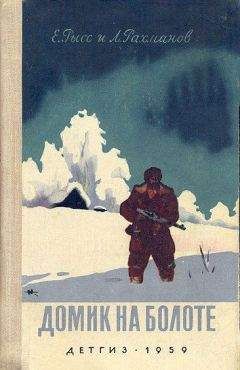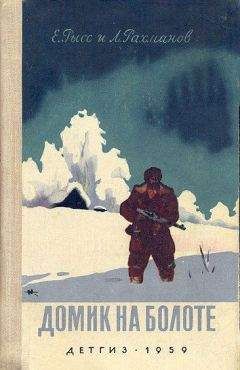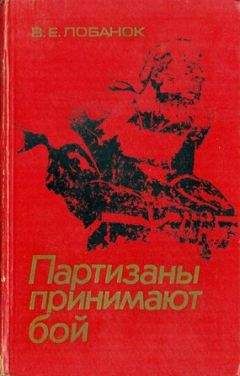— Ну что ж, — сказал я, — почему вы считаете, что это ошибка? Очень хорошо, что вы зашифровали.
Старик покачал головой:
— Ошибка была в другом. Мне было трудно шифровать одному. Я много работал в это время. Я попросил его мне помочь.
— Кого? — равнодушно спросил я.
— Как «кого»? — Костров с удивлением на меня посмотрел. — Якимова, разумеется!
Полузакрыв глаза, я раскачивался в качалке. Дневник был зашифрован! Это меняло многое. Это, прежде всего, подтверждало одно: дневник мог пригодиться только тому, кто знал шифр. Еще подтверждение того, что не мог похитить дневник человек посторонний. Правда, похититель мог не знать, что дневник зашифрован…
Как будто издали доносились до меня слова Кострова. Он все еще продолжал говорить печально и неторопливо:
— Я сам дал ему в руки все карты. Быть может, я сам навел его на мысль о похищении…
Ох, если бы знал профессор, как мало меня сейчас интересовал вопрос, совершил он ошибку или не совершил!
— Возможно, — рассеянно сказал я.
Но старика, видимо, очень мучила его вина.
— Вы считаете, что я виноват? — спросил он.
Мне некогда было его успокаивать.
— Кроме вас и Якимова, никто не знал шифра?
— Никто.
— Ни один человек? Это совершенно точно?
— Да, ни один человек. Я считал, что шифр должен знать только тот, кто шифрует.
— Поймите меня правильно, — сказал я. — Мой вопрос не имеет отношения ни к каким моим подозрениям, но я должен знать все совершенно точно. Когда вы говорите, что никто не знал, вы разумеете и Валю и Юрия Павловича? Буквально ни один человек?
— Буквально никто, кроме меня и Якимова.
— А кто знал, что дневник зашифрован?
— Это мы ни от кого не скрывали. — Он опять помолчал немного и продолжал: — И вот видите, к чему это привело! Уж, кажется, старался от всех оградить…
— Давайте условимся, — прервал я его: — пока что никто из нас не знает, что к чему привело.
Боюсь, что в голосе моем звучало некоторое раздражение, но старик этого не заметил.
— Думать, что ко мне подделывался человек, — говорил он, — с которым я вместе работал, прожил самое тяжелое время, делился всеми мыслями…
Я заставил себя не слушать Кострова. Значит, Вертоградский не знал шифра, рассуждал я. Его знал один Якимов. Но Вертоградский знал, что дневник зашифрован. Значит, убить Якимова он не мог. А представить себе, что он один набросился на Якимова здесь, у самого дома, в котором сидят Андрей Николаевич и Валя, и, не боясь шума и криков, ухитрился связать его, заткнуть ему рот, унести куда-то и спрятать, абсолютно невозможно.
Нет, по-видимому, я совершил ошибку, которую часто совершают следователи. Я отказался от самой вероятной возможности, которая была ясна всем. Я отказался от простой и ясной мысли, что вакцину похитил Якимов. Как будто из духа противоречия, я создал сложное и неубедительное построение и упорно держался за него, вопреки фактам и логике.
Как это часто бывает, истина заключалась не в сложном, а в простом: именно Якимов похитил дневник и вакцину.
Когда позже, уже в Москве, я возвращался мысленно к истории розыска вакцины Кострова, когда я перебирал в памяти этапы следствия, оно представлялось мне цепью сомнений, длинным рядом различных, подчас противоречивых, предположений, блужданием в темноте, и яснее всего я вспоминал чувство неуверенности, владевшее мною в течение всей первой половины следствия.
Итак, Якимов — единственный, для кого преступление могло иметь смысл. Какого же дьявола я все это время продумывал всякие варианты и упустил самый простой, самый естественный — тот, который был ясен и Кострову, и Вале, и Петру Сергеевичу! Что заставило меня так решительно от него отказаться? Только история с запиской? Конечно, случайность маловероятная. Но ведь бывают же всякие случайности. Легче допустить удивительное сцепление обстоятельств, чем полную бессмысленность преступления…
— …Я кажусь себе бесконечно неосмотрительным, — продолжал говорить Костров, по-видимому предполагая, что я его слушаю. — Самое важное, что я в своей жизни сделал, украдено. Что делать? Что делать, Старичков?…
Но готический шрифт? Зачем Якимов писал записку готическим шрифтом? Как бы я ни старался обойти это обстоятельство, оно снова напоминало о себе. Одна эта маленькая нелепость разрушала все стройное и ясное объяснение
— Андрей Николаевич, — сказал я, — вы и раньше переписывались с Якимовым по-немецки?
Костров посмотрел на меня с удивлением:
— Нет. Зачем?
— Так что вы никогда не видели какого-нибудь его письма, записи — словом, написанного им немецкого текста?
— Нет, конечно, видел: он делал для меня когда-то выписки из немецких журналов, приводил цитаты.
— И он всегда писал готической прописью?
— Готической? — Костров посмотрел на меня растерянно: по-видимому, он впервые обратил внимание на это обстоятельство.
— Нет, — сказал он. — Дайте вспомнить… Конечно, нет. Я обратил бы на это внимание. Он писал обыкновенными латинскими буквами…
Я встал с качалки и подошел к окну. Дождь не стихал. Потоки воды стекали по стеклам. Но молния сверкала реже. Глухая, беспросветная темнота была вокруг дома. В темноте этой было слышно, как воет ветер, шумят деревья, бурлят ручьи и бьет дождь по крыше и в стекла.
Прошли уже почти сутки с тех пор, как я здесь. Неужели действительно я еще ни на один шаг не приблизился к разрешению задачи? На секунду уныние охватило меня. Время идет, я не успеваю за временем. Еще день, еще ночь — и преступник скроется, обманув посты. И придется мне возвращаться в Москву, ничего не добившись…
Валя вошла в комнату с чайником.
— Дождь все сильнее, — сказала она. — На кухне так завывает в трубе…
— Да, — сказал я. — Не завидую тому, кто в лесу.
Вертоградский, зевая и потягиваясь, вышел из лаборатории.
— Чай! — сказал он. — Какая благодать! Я спал, и мне снилось, что я подставляю стакан под носик чайника. Чай все льется и льется, как этот дождь, а пить нельзя, потому что стакан без дна… Простите меня, я налью себе сам.
Он налил себе в стакан чаю и с наслаждением отпил.
— Выспались, Юрий Павлович? — спросил Костров; он тоже подсел к столу.
— Отлично отдохнул! — тряхнув головой, сказал Вертоградский. — И всё такие веселые сны снились. Будто вернулся Якимов, извинился, объяснил, что произошло недоразумение, и все возвратил.
Валя разлила чай по стаканам.
— Всегда вы, Юра, несете вздор! — сказала она раздраженно. Пододвинула стакан отцу и позвала меня: — Садитесь пить чай, Володя.
— Мне и вы снились, Владимир Семенович, — добродушно улыбаясь, сказал Вертоградский.
— Что же я делал во сне? — спросил я.
— Охота вам его слушать! — сказала Валя сердито.
Она подошла к окну и стояла, вглядываясь в темноту, поеживаясь под пуховым платком.
Вертоградский с наслаждением пил чай и болтал.
— Вы мрачный человек, Валя, — говорил он. — Берите пример с меня.
— Когда я подумаю, — сказала Валя, — что, может быть, вокруг дома ходит Якимов, такой привычный и такой невероятно чужой… Как будто сидела за столом с близким человеком, а он…
Она вскрикнула и отбежала от окна. Кто-то отчетливо и громко постучал в стекло.
Мы все вскочили. Я распахнул окно и высунулся наружу. Дождь и ветер ворвались в комнату. Огонь в лампе заколебался. Меня окатило водой, как будто кто-то из ведра плеснул на меня. Под окном стоял Петр Сергеевич в брезентовом плаще с поднятым капюшоном, и капли дождя текли по его лицу.
— Мне тебя, Старичков, — сказал он.
— Сейчас открою.
Я закрыл окно и, выйдя на кухню, отпер дверь. Петр Сергеевич вошел. Сразу же с плаща его натекла на пол большая лужа.
— Что случилось? — спросил я.
— Понимаешь, Старичков, — заговорил Петр Сергеевич, — нехорошее дело… Обоз я сегодня решил не посылать, дать лошадям отдохнуть. Часиков в десять пошел проверить, укрыты ли лошади от дождя. Оказалось, одной лошади не хватает.
Сзади скрипнула дверь. Мы обернулись. Костров, Вертоградский и Валя стояли в дверях. Петр Сергеевич замялся, но сразу махнул рукой.
— А, что тут секретничать! — сказал он. — Пересчитали телеги — и телеги одной нет. Тогда я велел обзвонить посты. Стали звонить, а связь нарушена. Я послал проверить линии. На всех линиях провода перерезаны.
— Оборваны или перерезаны? — спросил я.
— Перерезаны. И больших кусков не хватает.
— У тебя же конюх лошадей стережет, — сказал я. — Он что ж, не видел, как у него коня и телегу украли?
— Да ну его! — Петр Сергеевич нахмурился. — Что с него возьмешь! Дряхлый старик. Залез в землянку, печку топил, кости грел…